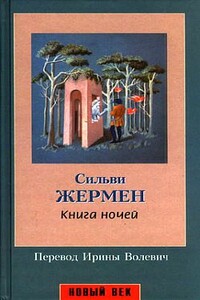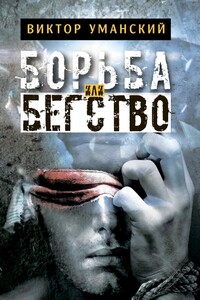Терпению, чтобы вырваться за пределы самой себя, этой пустыни, иссушенной стыдом, страхами и скорбями, по которой кочуют страсти и любви и которую иногда озаряют мимолетные миражи, что, исчезая с яростным шипением, разжигают жажду и боль. Безграничному и почти что сумасшедшему терпению, чтобы научиться жить в мире с собой, чтобы согласиться быть собой — пустыней, сглаженной ветром милосердия.
* * *
Люси кладет открытку Луи-Феликса на стол и поднимает голову. В окно она видит сад в цвету. День клонится к концу, приглушенное освещение меняет краски цветов; ветви деревьев неощутимо отягчаются легчайшим бременем темноты, вспрыснутой в плоть лепестков и листвы. Птичий гомон в посвежевшем воздухе становится громче и гуще.
Люси встает и выходит. Она поливает в саду цветы, потом садится на ступеньку крыльца и закуривает сигарету. По улице, насвистывая какую-то песенку, едет на велосипеде мальчик. На багажнике у него небольшая коробка, в которой сидит, насторожив уши и держа нос по ветру, пушистый щенок. Сейчас в поселке детей меньше, чем прежде. Многие уехали: земля в этих болотистых краях неплодородная, а жизнь неспешная, слишком неспешная и однообразная. Остаются, главным образом, старики. И конечно птицы.
Птицы здесь берут верх над людьми. Они ведь могут вить гнезда в камышах, в зарослях трав, на раскачивающихся ветвях. А людские дома один за другим пустеют, стоят запертые, сады вокруг них дичают. Волки, что когда-то бродили по окрестным лесам, исчезли, как тени; феи, блуждающие огоньки, добрые и злые духи спят в ландах да в тростниковых зарослях. Но вовсе не молния изгнала отсюда волшебниц со слишком чувствительными сердцами, а слепящие огни гигантских антенн. Однако старики и старухи, что пока еще остались в этих краях, прекрасно знают: достаточно малой малости, чтобы пробудить блуждающих этих духов, а главное, знают, что никогда нельзя по пустякам вызывать их.
Сейчас это известно и Люси; она узнала, что нельзя внезапно пробуждать колдовские воспоминания и легкомысленно относиться к силе, затаившейся в глубинах памяти, а также узнала, что если порывисто, с гневом обернешься к тени прошлого, бредущей по пятам за тобой, с нею всего-навсего и столкнешься. И тогда тень собирается с силами, еще больше сгущается и становится еще тягостней и враждебней. Люси поняла, что голосам, лицам, жестам и отзвукам шагов навсегда ушедших нужно позволять приходить в свой час и уходить в свой час. Люси научилась терпению.
Солнце почти полностью закатилось, остался лишь пробивающийся из-за горизонта отсвет, небо стало холодного темно-синего цвета. Птичий гомон утихает, слышны лишь отдельные приглушенные трели. Цветы закрываются. Белый щенок бежит вверх по дороге, мальчик, склонясь к рулю велосипеда, едет за ним. Мальчик звонит в звонок, щенок останавливается, оборачивается, тявкает и снова пускается бежать, задрав хвост. Люси поднимается со ступеньки и возвращается в дом, направляется в гостиную, открывает дверь. Но когда она собралась зажечь свет, ее палец вдруг замирает на выключателе.
На темной деревянной столешнице светлое пятно — почтовая карточка. Все вещи вокруг, поглощенные заполнившей комнату темнотой, словно бы отхлынули, чтобы освободить место этой картинке, поместить ее в центр зримого мира. Люси приближается к столу, она видит только это бледное пятно. Она склоняется над картинкой. И вместе с нею склоняется ее детство.
Люси Добинье, которой скоро сорок, и маленькая Люси вдвоем созерцают одну и ту же картинку, и их общий взгляд потихонечку просветляется от желтовато-золотистого сияния, стекающего со склона холма, где спят пастухи.
Глубокий покой исходит от картины и дарит утешение девочке, что так долго оставалась в тени взрослой женщины. Легкая — легкая и прозрачная — радость звучит в картине и высвобождает женщину от девочки, которая до сих пор была ее полутенью и ее цепями. Ласковое успокоение распускается в сердце Люси, подобно болотному ирису в пору цветения. Ибо эта картина, это сияние уже давно таились в зародыше в ее сердце, они созревали во мраке и безмолвии, и расцвет их столь же удивителен, сколь и очевиден. Это расцветание долгого терпения.
В Люси только что родилось второе детство. И глаза этого детства уже не обжигают сдерживаемые слезы, они чуть увлажнены, как бывает, когда просыпаешься после счастливого сна. Это уже не огромные глаза внушающего ужас идола, не глаза моленницы, они сияют нескрываемой любовью.
Новое детство, которое больше не будет плестись за ней и не станет для нее путами, уже зовет ее вырваться за пределы своего возраста.
Даль, самая чудесная из всех далей, ласково сияет в средоточии того, что именуется «здесь и сейчас». Здесь, в дали, и сейчас золотисто-желтое сияние новорожденного детства. Его надо лелеять. И Люси дает ему приют в своем взгляде.
Во взгляде, который по-прежнему остается цвета ночи. Но отныне это ночь Рождества.
«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди…»
Матф. 2, 20