Вышла из круга - [9]
Прощались они так:
– До свидания, Елена Сергеевна, – говорил он… – На днях непременно заеду за вами и увезу вас за город. На будущей неделе в четверг праздник. Наступает весна, земля за городом покрылась травой…
– До свидания, но я не поеду.
– Опять испугались?
– Нет, не испугалась.
– Значит, поедете, уверен, что поедете. До свидания, – тут он приложился к ее руке. – В будущий четверг я у вас.
– До свидания, но в будущий четверг меня не будет дома.
– Странно, – со значительностью в голосе произнес он и подозрительно посмотрел на нее.
«Он, кажется, догадался, что я его поняла, а мне этого не хочется, – подумала она – Лучше рассею его уверенность, и он решит, что я ничего не заметила»
– Я пошутила, – выговорила она громко, – а вы и поверили… Приезжайте, непременно приезжайте.
Сказав это, она тотчас же пожалела, а когда осталась одна, то долго мучилась от своей глупости, от неумения найтись в нужную минуту. Ведь, в сущности, она ему назначила свидание, которого не хотела, о котором и не думала…
Но, в конце концов, что же дурного в том, что поедет со знакомым покататься за город? Какая катастрофа, какое мировое событие! Поедет ли она, не поедет, выслушает ли его глупости, или откажется, что изменится во вселенной и что в этом значительного?.. И все-таки, все-таки в данном ею согласии есть что-то нехорошее, и она не поедет с ним…
Вскоре пришли дети с прогулки. Она сначала страшно обрадовалась им, бросилась к Боре и стала страстно целовать его холодные розовые щечки, помогла раздеться Коле и пошла с обоими в детскую…
Коля тотчас затеял борьбу с Борисом. Потом бросил, обнял Елену и начал рассказывать длинную историю о гимназии, о товарищах, о географии… Елена с мучительным усилием заставила себя слушать и думала: «Как я холодна к детям, как мне неинтересно с ними… Отчего это? Я ведь люблю их, я страстно люблю их!..»
Коля замолчал, мама плакала… Он по-детски крепко, порывисто обнял ее и услышал, как она шепчет ему на ухо:
– Я люблю тебя, Колюшка, я виновата перед тобой, я виновата перед всеми вами… Я люблю тебя, и географию, и твою гимназию, и твоих товарищей… У тебя волосы, как у папы, ты весь в него.
Коля не выдержал и засопел носом… Он тоже заплакал, и было хорошо обоим и хотелось, чтобы это длилось вечно…
…Обед прошел чинно. Елена была очень сдержана, и мало ела, мысли ее витали далеко, и когда она случайно взглядывала на руки Ивана, так похожие на руки Глинского, то испуганно вздрагивала, холодела и мучилась от стыда.
Иван был очень весел, оживлен. Он рассказывал об адвокате, который обнадежил его насчет исхода тяжбы, о заводе, обращаясь то к жене, то к отцу и матери, шутил с детьми. Настроение его передалось и старикам, и к концу обеда оба они расцвели. Когда подали кофе, дети с бонной вышли… Поднялась и Елена.
– А кофе? – спросил ее Иван.
– Не хочу, – ответила она. – Я посижу в гостиной, пока вы тут будете разговаривать. Я ведь в делах ничего не понимаю.
Николай Михайлович со значительным видом утер салфеткой густые седые усы свои, намокшие от кофе, бороду, смахнул пушинку с широких клетчатых брюк и закурил. Лукерья Антоновна, сделавшаяся от ожидания как бы еще тоньше, суше, чопорнее, подалась всем телом вперед и приложила руку к уху, чтобы лучше слышать…
Елена вошла в гостиную, зажгла электричество, взяла со столика какую-то книгу – ее привлек черный матовый переплет – уселась в кресло и с книгой в руках замерла… Из столовой доносился размеренный старческий хриплый голос Николая Михайловича, и Елена слушала и не понимала, как слушали и не понимали цветы в вазах, картины и старинные гравюры, развешанные по стенам, чудесные книги, разбросанные здесь в беспорядке, Шиллер и Шопенгауэр…
– Я знаю, – донесся из гостиной голос Ивана, – я знаю только один способ быстрой и верной наживы, но я к этому способу, папаша, не прибегну… А имение или закладные, как вы раньше предлагали, – вздор, нестоящее дело.
– Какой же этот способ, Ваня?
– Ростовщичество…
– Ростовщичество! – с презрением произнес Николай Михайлович. – Это недостойно тебя.
– Почему недостойно, папаша? Я, если правду сказать, лично против ростовщичества ничего не имею и не презираю этого способа наживы. В действительности, любое дело, заводы, фабрики, эксплуатация имения, – все эго есть не более как скрытое ростовщичество… Но если жить с людьми, то невольно приходится подражать им, лицемерить… Я и лицемерю и подражаю столько, сколько это нужно для моего спокойствия. Конечно, я отлично знаю, что займись я ростовщичеством, я мог бы при ничтожном риске наживать по двадцать четыре на сто, но… предрассудок, папаша. Я и смеюсь над предрассудками, но ничего не могу поделать…
«А я бы на месте Ивана сделалась ростовщиком, – вдруг будто кому-то сказала Елена… – Ведь я не верю ни в человеческую правду, ни в его мораль… Я бы назло стала ростовщиком».
И она спорила дальше…
«Нет, я бы еще больше сделала, будь я мужчиной… Вы говорите: не убей, а я бы убила; вы говорите: не прелюбодействуй, а я бы прелюбодействовала. Почему нельзя убивать, красть, грешить, делать зло? Чем это ниже спасения чьей-нибудь жизни, или жертвы во имя кого-нибудь, когда и то и другое одинаково не оправдано?..»
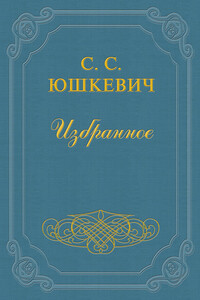
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
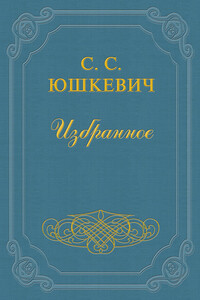
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
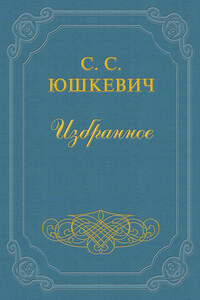
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
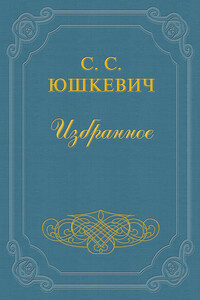
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
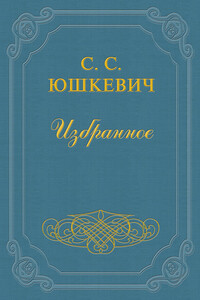
«Малейшее свободное наше движение, громкий разговор, смех, – всё это раздражало его так, что мы не смели шелохнуться при нём. Время для нас тянулось тогда особенно долго, тоскливо и вместе с ним всё казалось каким-то другим, точно и комнаты, и прислуга, и мать, и большой, поросший травой двор…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.
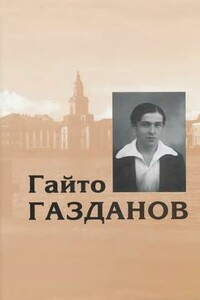
В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.