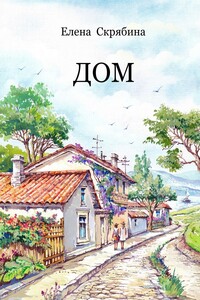Стемнело. На горизонте засветились башни Манхеттена. Спустили на лямках гроб. Покидали горстями землю. Еще раз послушали ребе и стали расходиться уже в полных сумерках, под стук быстро насыпаемой лопатами замерзшей земли. Выясняли кто кого подвезет, переключались на дела, на этот предстоящий вечер, на завтра, на еще предстоящую жизнь.
- В Могилеве, - пишут, - жуткий бандитизм. Даже в Минске. Шурин приехал, говорит, обратного билета не брал, назад не поеду, делайте что хотите. Лиля Помбрик, поскользнувшись на льду, чуть не упала, ее поддержали рукой и добрым советом. - Нет, милочка, только не здесь. Расшибаться нужно перед богатым домом и получить миллион.
Дух Дария покружился немного над своей табличкой, еще бумажной, временной, но носящей собственное его имя четкими латинскими буквами 'DARYI KORSCH'. Именно так, а не 'Кто Вам Угодно', как на безадресной почте. Силуэты уходящих людей пропадали для него, как на выключенном телеэкране. Ни времени ни пространства для него уже не было. То есть был он уже сразу везде и всегда, но где-то его будто бы было больше, что имитировало движение. Еще раз пролетел он по Квинс-Бульвару, по трассе выставленных в окна ханукальных свечей, мимо похожих на похоронные рождественских еловых венков с красными бантами, через все зарево Большого Нью-Йорка. Миновав ледяной холод Атлантики, пролетел над старой Европой...и мягко втянулся на окраину гомельской земли, на отравленную радиацией несчастную измученную землю, где дед и отец его и мать и где на старом камне менора - точно как ветка ханаанской пальмы.
1991