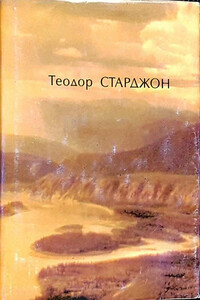Второе нашествие марксиан: Беллетристика братьев Стругацких - [35]
Вечеровский критикует теорию Вайнгартена в терминах, напоминающих Лема. Не только идея сверхцивилизации слишком человеческая, это типично антропоцентристский подход — полагать, что человечество на настоящей ступени развития способно угрожать какой-либо сверхцивилизации, достойной этого названия. Так готовно находить антропоморфный ответ на их проблему — значит попасть в старую ловушку:
«От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без какого-нибудь костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется научиться. Потому что у вас, в вашем положении не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, что у вас и врага нет!»
Какая бы сила ни действовала, вопрос — как замечает Вечеровский — спорный. Когда Малянов пытается бороться, вернувшись к своим вычислениям, события обрушиваются лавиной: жена возвращается, вызванная тревожной телеграммой, полностью выросшее дерево неожиданно появляется во дворе, и Малянов получает телеграмму, напоминающую о возвращении сына на следующий день. Последние строки телеграммы зловещи: «БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА». После этого Малянов собирает свои заметки, кладет их в папку и относит их к Вечеровскому на хранение — как уже сделали Вайнгартен, Губарь и Глухов. Квартира Вечеровского выглядит так, словно в ней взорвалась бомба, и в первый раз Малянов понимает, что Вечеровский тоже «под давлением». Математик выбрал: продолжать борьбу и искать других людей, согласных на это. Он не ждет победы над Гомеостатическим Мирозданием при своей жизни, но, как он замечает, «До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться». После многозначных финалов нескольких последних произведений, этот элемент надежды посреди отчаяния напоминает ранние работы, например, повесть «Далекая Радуга».
Хотя сама по себе гипотеза Гомеостатического Мироздания интригующа и занимательна, западный читатель не может не увидеть второй смысл романа. События и значительная часть риторики предполагают параллели с интеллектуальной жизнью в полицейском государстве. Вечеровский сам выражает эту возможность, когда предполагает, в шутку, что его товарищи стали жертвами «милиционера с аберрациями поведения». Прямее указывает непрерывное преследование, испытываемое персонажами, преследование, не только не дающее им работать, но и ведущее к духовному и физическому уничтожению их. Особенно мучительно, в этой связи, то, что Малянов говорит о себе после капитуляции.
«Вернулся ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непроходимая черта. Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило… Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться».
Такова действительно может быть изоляция интеллектуала в жестко контролируемом социуме. Относиться к этому произведению только как к умной и тайной атаке на советскую систему, впрочем, значило бы редуцировать ее. Роман воспринимается во всей полноте, только если его рассматривать в контексте развития творчества Стругацких. «За миллиард лет до конца света» берет внутренний консерватизм человеческих институций, включая советские, и проецирует его на космос. В то время как в более ранних работах — почти во всех — от «Трудно быть богом» до романа «Гадкие лебеди» — индивид находится в конфликте со своим социумом, здесь он противостоит целому мирозданию, мирозданию, которое, как и рассматривавшиеся везде бюрократические структуры, сохраняет себя ценой отказа от прогресса. Если само мироздание имитирует негибкость управленческих структур, может быть, утописта можно простить за безрезультатность и даже отступничество. Он безнадежно проигрывает в численности.
В конечном счете, все объяснения, предложенные персонажами для событий романа — конструкты человеческого разума, и уже потому, по Лему, обреченные на ошибочность. Сходны темы и остальных произведений 1970-х годов, хотя в них отсутствуют политические и идеологические аллюзии. Остается только горсточка космических тайн в духе Лема, которым не хватает глубины и резонанса таких произведений, как «Гадкие лебеди», «Пикник на обочине» и в чем-то более причудливый «За миллиард лет до конца света». Две работы из вышеупомянутых — «Отель „У погибшего альпиниста“» («Hotel „To the Lost Mountaineer“», 1970) и «Малыш» («The Kid», 1973). Это повести, в первой рассказывается о таинственных событиях, которые в финале, несколько торопливо, объясняются действиями роботов; в ней присутствуют незначительные упоминания Горбовского и других персонажей ранних работ. Вторая, опубликованная на английском как «Space Mowgly», показывает ребенка, выращенного, подобно хайнлайновскому Валентину Майклу Смиту, инопланетянами; загадки, окружающие «малыша», очевидно связаны со Странниками, древней расой, часто упоминаемой в ранних работах Стругацких.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2000, № 6. Проблема, которой посвящен очерк Игоря Ефимова, не впервые возникает в литературе о гибели Пушкина. Содержание пасквильного “диплома” прозрачно намекало на амурный интерес царя к Наталье Николаевне. Письма Пушкина жене свидетельствуют о том, что он сознавал смертельную опасность подобной ситуации.

Клайв Стейплз Льюис 1898 — 1963. Вступительная статья к романам "За пределы безмолвной планеты","Переландра". В современной Эстонии — а может быть, и в современной Северной Ирландии — в эти тонкости вникать бы не стали и сочли бы всех предков Льюиса (и его самого) чужаками и оккупантами. Оккупация Ирландии англичанами совершилась в семнадцатом веке, но прошедшие столетия "этнических" ирландцев с нею не примирили. И если с точки зрения англичан Льюис был достаточно ирландцем, чтобы подшучивать над его пристрастием к спиртному и поэзии как над особенностью национальной, то с точки зрения ирландцев Льюис и ему подобные были достаточно англичанами, чтобы их ненавидеть.
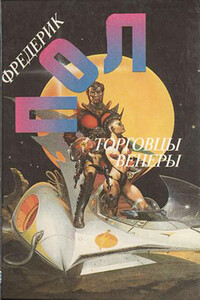
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.