Вторник, четверг и суббота - [12]
Елохин замолчал, и сразу же заговорил Саша. Но если рассказ Елохина может быть передан на бумаге, то передать Сашину речь невозможно, а вспоминать ее мне и теперь тяжело — так она рвалась и скручивалась, и впечатление было такое, что вот молчал человек восемнадцать лет — и заговорил, спотыкаясь, преодолевая себя, то рывком садясь на постели, то снова ложась. Это было понятно по хрусту сена.
— В больнице… Летом, народу никого… Живот у него весь в рубцах… На Курской дуге… Ну, и он им давал, он танкист, — кишки на обгорелых пнях… Я сперва не понял… Он через два дня умер… Вроде Завещания… Знаете, что он сказал?
Тут Саша сел на постели и отчетливо проговорил:
— Он уж редко в себя приходил. Опомнился и говорит: «Ты знай, что в тебе это есть — Родина. И с годами это будет все сильнее». И знаете, Николай Иванович, я поверил. Какой хороший человек, — верно, Николай Иванович? Он когда умер, я сперва ревел, а потом долго ничего с собой поделать не мог — ни спать, ни есть, ни книгу читать. Все думал, думал про него.
На повети стало тихо.
Я ожидал, что Елохин как–то отзовется, откликнется — может, пожмет Саше руку, благо легко дотянуться. Неужели Коля не понимает, что нельзя ему взять да заснуть?
После долгого молчания Елохин сказал неожиданно сухо:
— Да. Я еще днем хотел… Я звонил с почты Василию Ивановичу. Мы тебя берем в газету, литсотрудником. До армии поработаешь, после службы вернешься, поступишь заочно на журналистику. Так многие делают.
— Я? Меня?
Сено скрипнуло.
— Завтра скажешь, согласен ты или нет. С родителями могу поговорить.
— Николай Иванович! Можно, я сейчас скажу?
— Сейчас не надо. На горячую голову такие дела не решают. Спим.
Но тут сон от меня отодвинулся, и я припомнил давнишнюю мысль, на первый взгляд довольно странную: чтобы опытный, толковый газетчик, явившись в некую область и предложив свои услуги, мог попасть не во всякую районку, где есть вакансия. Ведь актер пойдет не в любой театр, и не в любом театре его примут в труппу.
Это была мысль о том, что районные газеты хорошо сделали бы, если бы стали непохожи одна на другую, хотя, разумеется, обычные обязанности за ними остались бы. Одна районка славилась бы редкой оперативностью, обилием фотоочерков и репортажей. В ней собрались бы люди, особенно легкие на подъем, со вкусом к тому, чтобы запечатлевать бегущее мгновение. Другая отличалась бы глубиной, привлекала бы к районным делам не только все лучшие местные умы, но и специалистов из крупных городов — экономистов, социологов, которых соблазнила бы возможность ставить практические опыты. В эту редакцию поехал бы человек, привыкший видеть в малом большое, понимающий, что районная практика способна проверить многие теории. Третья, положим, вела бы широкую борьбу за здоровье: физкультура, охота, рыболовство и массовые туристские походы.
Но вот, пока я мечтаю, Елохин времени не теряет. Завербовал работника. Будет обучать. И я уверен, что Саша… А вот что еще интересно: какой должна быть та газета, в которую скорее всего пошел бы Елохин?
Саша пробормотал что–то.
— Замолкни, — негромко, но внушительно отозвался Елохин. — Будем спать или нет?
И с этим словом «спать» на меня накинули черный мешок и швырнули вниз с высокой горы. Летя в пропасть, я успел подумать: хитер Елохин, никуда он не звонил, на почту мы с ним вместе ходили. Хитер Елохин… Я лечу, я сплю.
ГОРЯЧАЯ ПОДПИСЬ
В типографии бывали дровяные субботники. Дрова пилили, кололи и укладывали в поленницы, которые макарьинцы называют кострами. На это отпускались деньги, но типографские предпочитали поработать сами, с желающими из редакции, — никого не нанимать, а после работы устроить общее застолье.
Начали в девять утра. Женщины пилили в четыре пилы, мужчины кололи в четыре топора: пожилой механик по линотипам, Елохин, я и Саша Перевязкин. Дрова были только что с лесобазы, ровные, сухие, и колоть их было одно удовольствие.
Механик, держа топор в правой руке, проворно откалывал от чурбака небольшие поленья. Мы с Елохиным кололи попросту. Но больше всех старался Саша. Он работал в одной майке, с неподдельной охотой играл колуном, разворачивая загорелые широкие плечи, и женщины его похваливали.
К полудню вдоль всего одноэтажного деревянного домика типографии протянулся высокий, ослепительно белый дровяной вал. Одна из женщин сходила в магазин, другие быстро наладили обед в цехе ручного набора, на широком дощатом столе, застеленном газетным срывом, то есть чистой белой бумагой.
Умылись у колодца, поливая друг другу из ведра, и сели за стол сам–двенадцать.
Молодую картошку пока что ели на тысячу километров южнее, в средней полосе. До свежего мяса нужно было еще прожить месяца три, разве только сломает ногу совхозная корова — и говядина появится в ларьке на день–другой. Но прошлогодняя картошка была из хорошего погреба. Стояли бутылки с вином. Стояли бутылки из–под болгарских, немецких, алжирских вин, наполненные топленым молоком и аккуратно заткнутые тряпочками. Светились румяными солнышками толстые лепешки — шаньги и тонкие лепешки — налистники. С большого пирога–рыбника, неизменного блюда в Макарьине, если только есть рыба, его владелица сняла верхнюю корку, и я снова увидел нежные звенья палтуса, которые все стали брать руками (Гаврила Иванович, видимо, разворачивал бурную торговую деятельность). Хлеб и сыр нарезали длинным, очень острым, узким ножом, которым обычно режут газетную бумагу. Тем же ножом на нашем конце стола намазывали масло. Другой конец обходился стальной линейкой — строкомером.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
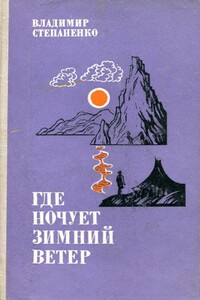
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.
