Вторая книга - [199]
Уезжая в Армению, Мандельштам уволился и получил доброжелательную характеристику. В ней было сказано, что он принадлежит к интеллигентам, которых можно допускать к работе, но под наблюдением партийных руководителей. Его это почему-то задело, а я смеялась, почему он обижается на своих "парнокопытных" друзей[500]. Чего, собственно, он мог ожидать от них? И он ведь обнаружил, что у них копыта, а не ступни, задолго до получения характеристики... Я берегла эту милую бумажку и не помню, когда она пропала: во время обысков, выемок или сама по себе. От нее пахло двадцатыми годами комсомольского типа на пороге великих дел. Комсомольцы еще чувствовали себя солью земли, но сознавали, что следует подсолониться культурой. Судьба их ждала зловещая. Они погибли на войне и в лагерях по обвинению в троцкизме, тайном или явном, реальном или выдуманном. Все поколение пошло под нож, но можно поручиться только за одно: до своего собственного ареста или гибели на войне они сами неустанно чистили и сажали. Единицам, быть может, повезло, и они уцелели в лагерях или на большой командировке. Такие сейчас играют по дворам в домино, хвалят бывшего хозяина, который проявил волю и твердость, ругают бестактного Никиту, позабыв, что это он выпустил их из лагерей и переселил из подвалов в дивные квартиры в Черемушках, хотя они уже не приносят никакой пользы государству. Смешно, что они ругают Никиту, единственного из начальников, позволившего старикам получать пенсии, квартиры и телефоны. Я, например, ему очень благодарна, хотя он не ведал, что творил.
В тот давно прошедший год, когда нынешние старики служили с Мандельштамом и всё гадали, как бы набраться у него культуры, они еще по-своему были добродушными малыми. Мне не раз случалось видеть, как они кормят обедом своих уже падших и разоблаченных друзей. В последующие годы никто бы не решился не только накормить, но даже поздороваться с отверженным. То были сладостные и невинные времена, о которых до сих пор вспоминает старшее поколение. Если б им дать вторую молодость, они бы всё повторили с самого начала.
Обиду Мандельштама на дурацкую характеристику я объясняю только тем, что он органически не переносил, чтобы его воспитывали. Это свойство, вероятно, и является признаком дурного характера, на который до сих пор жалуются его современники. Даже я не пробовала влиять на него и не лезла в воспитательницы, хотя еврейские жены славятся своими талантами на поприще мужеводства. Чтобы показать, как он не переносил воспитателей, я приведу малозначительный, но характерный случай, относящийся к эпохе дружбы с газетой и странной стабильности. В редакцию пришел рапповский критик Селивановский. Ему поручили отыскать Мандельштама и сказать ему, как его на данном этапе расценивает РАПП. Оказалось, что РАПП относится к Мандельштаму настороженно: наконец-то он стал советским человеком (иначе: служит в газете), но почему-то не написал ни одного стихотворения, то есть не продемонстрировал сдвигов в своем сознании. (Почему удивляются китайцам? Изобретатели не они, а мы.) Я никогда не видела Мандельштама в таком бешенстве. Он окаменел, губы сузились, глаза уставились на Селивановского. Он спросил, почему РАПП не справляется, как протекает у него половая жизнь, какие приемы в этой области рекомендуют РАПП и Цека, применим ли здесь классовый подход... Селивановский по-настоящему испугался - я видела это по его лицу. Он хотел что-то сказать, но Мандельштам не позволил. Ему пришлось несколько минут слушать поток бешеных речей, а потом увидеть спину Мандельштама. Селивановский, один из самых мягких из рапповской братии, вероятно, подумал, что Мандельштам опасный сумасшедший. Тем более то, что ему поручили передать, являлось знаком благоволения, а писатели принимали такие знаки почтительно и с радостью. Это было почти предложением сотрудничества, выраженным на языке Авербаха и Фадеева.
Мандельштам сказал еще, что его работа становится общественной собственностью, только когда она напечатана, - "тогда бросайтесь хоть всей сворой" ("Осип Эмильевич, вы называете нас сворой!")... До этого рыться в сознании писателя так же гнусно, как перетряхивать его простыни и проверять, спит ли он со своей женой: "Вы же не спрашиваете меня, живу ли я со своей женой и сколько раз в неделю... А может, нет..." Селивановский пытался что-то сказать, что это буржуазная точка зрения и разговоры о так называемой свободе творчества... Писатель всегда работает в пользу того или иного класса... Но это были отдельные писки, которых Мандельштам не слушал. На слово "творчество" он матюгнулся и ушел в ресторан, зацепив по дороге меня. Я смертно обиделась, что при мне он развел эту непристойность про жену, но он только цыкнул: "Ничего не понимаешь... Заткнись..." Именно обида запечатлела в моей памяти этот разговор. Долго ли я сердилась - не помню. Скорее всего, за обедом он меня развеселил, и мы помирились...
Селивановского мы больше не видели. Думаю, он доложил куда следует об этом "приятном" разговоре. Хоть он и не был зловредной фигурой, "докладывание" считалось обязательным, тем более что Мандельштам назвал в неподобающем контексте некоторые важные учреждения. Селивановский кончил там же, где все или многие: судьба человека не зависела от того, что он думал и говорил.
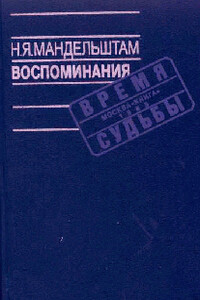
В основу публикации положены сохранившиеся в Москве авторизованные машинописи книги, а также экземпляр первого зарубежного издания (Нью-Йорк: Изд-во Чехова, 1970) с авторской правкой. Духовное завещание Н.Я. Мандельштам, помещенное в приложениях, — составная часть одного из машинописных вариантов.

Из-за воспоминаний Надежды Мандельштам общество раскололось на два враждебных лагеря: одни защищают право жены великого поэта на суд эпохи и конкретных людей, другие обвиняют вдову в сведении счетов с современниками, клевете и искажении действительности!На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и стали рассматриваться как важный источник по сталинскому времени.

Книга Н. Я. Мандельштам «Об Ахматовой» – размышления близкого друга о творческом и жизненном пути поэта, преисполненное любви и омраченное горечью утраты. Это первое научное издание, подготовленное по единственной дошедшей до нас машинописи. Дополнением и своеобразным контекстом к книге служит большой эпистолярный блок – переписка Н. Я. Мандельштам с Анной Ахматовой, Е. К. Лившиц, Н. И. Харджиевым и Н. Е. Штемпель.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга — типичный пример биографической прозы, и в ней нет ничего выдуманного. Это исповедь бывшего заключенного, 20 лет проведшего в самых жестоких украинских исправительных колониях, испытавшего самые страшные пытки. Но автор не сломался, он остался человечным и благородным, со своими понятиями о чести, достоинстве и справедливости. И книгу он написал прежде всего для того, чтобы рассказать, каким издевательствам подвергаются заключенные, прекратить пытки и привлечь виновных к ответственности.

Кшиштоф Занусси (род. в 1939 г.) — выдающийся польский режиссер, сценарист и писатель, лауреат многих кинофестивалей, обладатель многочисленных призов, среди которых — премия им. Параджанова «За вклад в мировой кинематограф» Ереванского международного кинофестиваля (2005). В издательстве «Фолио» увидели свет книги К. Занусси «Час помирати» (2013), «Стратегії життя, або Як з’їсти тістечко і далі його мати» (2015), «Страта двійника» (2016). «Императив. Беседы в Лясках» — это не только воспоминания выдающегося режиссера о жизни и творчестве, о людях, с которыми он встречался, о важнейших событиях, свидетелем которых он был.

Часто, когда мы изучаем историю и вообще хоть что-то узнаем о женщинах, которые в ней участвовали, их описывают как милых, приличных и скучных паинек. Такое ощущение, что они всю жизнь только и делают, что направляют свой грустный, но прекрасный взор на свое блестящее будущее. Но в этой книге паинек вы не найдете. 100 настоящих хулиганок, которые плевали на правила и мнение других людей и меняли мир. Некоторых из них вы уже наверняка знаете (но много чего о них не слышали), а другие пока не пробились в учебники по истории.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Это была сенсационная находка: в конце Второй мировой войны американский военный юрист Бенджамин Ференц обнаружил тщательно заархивированные подробные отчеты об убийствах, совершавшихся специальными командами – айнзацгруппами СС. Обнаруживший документы Бен Ференц стал главным обвинителем в судебном процессе в Нюрнберге, рассмотревшем самые массовые убийства в истории человечества. Представшим перед судом старшим офицерам СС были предъявлены обвинения в систематическом уничтожении более 1 млн человек, главным образом на оккупированной нацистами территории СССР.

Монография посвящена жизни берлинских семей среднего класса в 1933–1945 годы. Насколько семейная жизнь как «последняя крепость» испытала влияние национал-социализма, как нацистский режим стремился унифицировать и консолидировать общество, вторгнуться в самые приватные сферы человеческой жизни, почему современники считали свою жизнь «обычной», — на все эти вопросы автор дает ответы, основываясь прежде всего на первоисточниках: материалах берлинских архивов, воспоминаниях и интервью со старыми берлинцами.