Встречи - [9]
Именно так — устремлённым вперёд, на ходу, в движении — ушёл из жизни и он сам — наш друг Константин Симонов.
СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Знакомства с Э.Г. Казакевичем я поначалу, откровенно говоря, побаивался. Во всяком случае, не очень к нему стремился, хотя случай познакомиться с ним представлялся не раз — имелись у нас общие знакомые.
От так называемых «литературных кругов» был я тогда, в пятидесятых годах, достаточно далёк. Принадлежал к корпорации читательской, но отнюдь не к писательской. Но книги Эммануила Генриховича — начиная с неповторимой «Звезды» — очень любил (как люблю и по сей день). И мне по общеизвестной читательской наивности казалось, что автор таких книг сам обязан быть немножко Травкиным или Лубенцовым, или, во всяком случае, чем-то похожим на них. В то же время случайные контакты с одним-двумя литераторами, по своему человеческому облику очень мало похожими на созданные ими персонажи, неожиданно оставили у меня некие саднящие зарубки в душе. Говорю «неожиданно», так как, вообще говоря, сентиментальностью характера не отличаюсь. Но вот тут почему-то оказался чувствителен. А столкнуться с подобного рода «ножницами» между героями Казакевича и его собственной личностью мне особенно не хотелось — очень уж много света излучали эти герои. Хотя, конечно, в таком более или менее связном виде я свои опасения осознал и сформулировал для себя позднее.
Забегая несколько вперёд, хочу сказать, что, узнав Казакевича, я увидел, насколько он оказался (по крайней мере, в моих глазах) одновременно похож и не похож на своих героев. Похож своей человечностью, органичной демократичностью (чувства превосходства над так называемыми «простыми людьми» в нем не было ни на копейку), развитым чувством долга. Не похож ироничностью ума, прорывающимся иногда скепсисом, а иногда даже душевной усталостью, ну и, конечно, несравненно большим калибром мышления. Условно — тут иначе, как условно, не скажешь — я бы уподобил Казакевича повзрослевшему, набравшемуся всякого, в том числе и горького, жизненного опыта, много поучившемуся и почитавшему, несколько приуставшему от жизни Лубенцову. Но, повторяю, это, конечно, лишь очень условно…
Итак, познакомились мы в конце 50-х годов. И как-то сразу возникла у меня глубокая симпатия к этому человеку. Многое в нем было непохоже на профессионального литератора, да и вообще на «чистого» гуманитария. Не помню, чтобы он спрашивал о чем бы то ни было просто так — «для разговора». Об авиации расспрашивал меня так, что я, проработавший в ней всю жизнь, не всегда мог, что называется, с ходу ответить на его вопросы. Он легко переходил с деталей (тут он бывал иногда до въедливости дотошен, но и я лицом в грязь, в общем, не ударял) на такие широкие обобщения, о которых я раньше и не задумывался, Однажды, помню, поразил меня вопросом о том, как, по моему мнению, влияет лётная профессия на личные нравственные свойства человека. Сейчас очень близкая к этому тема — о профессиональном и нравственном облике учёного — часто обсуждается в печати, но в те годы сама постановка вопроса о существовании подобной связи была, по крайней мере для меня, в новинку… Или — в разговоре о художнике Нисском, любящем привносить в пейзаж нашей средней полосы элементы созданного человеком — автомашины на шоссе, линии электропередачи и т.д., Казакевич вдруг спросил меня, как я считаю: самолёт в небе украшает или портит его? Имея в виду, конечно, не только самолёт и не только небо…
Эрудиция у него была не просто обширная, как бывает иногда у людей эрудиция этакого, я бы сказал, «складского» характера: знает человек про очень многое, лежат эти знания у него в голове, как на складе, а если нужно, он вынет любую «единицу хранения», покажет её восхищённому собеседнику и спрячет обратно. Нет, у Эммануила Генриховича эрудиция была совсем другого толка — факты не лежали у него тихо и мирно в памяти, а как бы находились в непрерывной переработке, сталкивались между собой и с другими, вновь поступающими, и в таком горячем, бурлящем виде (хотя и в весьма сдержанной «упаковке» — тихий голос, неторопливая речь) выплёскивались на собеседника.
Я предполагаю, что вряд ли были ему чужды и так называемые «узкоцеховые» литературные интересы: кто что о ком сказал, кого похвалили, кого обругали, что пропустили, что зарубили и так далее. Предполагаю так потому, что не было в Казакевиче черт снобизма (типа «Я выше этого…») и интересовался он всем, происходящим вокруг него, а в кругах литературных — особенно. Но, конечно, в этой области я для него был, что называется, не собеседник… Зато не раз имел возможность убедиться, как много он знал, и сколь многим интересовался в других областях! Был, в частности, большим знатоком истории второй мировой войны — и, опять-таки, не только в том, что касалось фактов (хотя и по части фактов удивлял своей эрудицией и памятью), но и в освещении, понимании, толковании этих фактов.
Так однажды он вдруг заговорил о взаимовлиянии боевых событий на разных фронтах — особенно о влиянии событий на нашем, советско-германском фронте на ход войны на Западе. Позднее эта тема обрела вторую молодость под влиянием стремления некоторых учёных-историков постфактум «подкорректировать» факты. А тогда в ходе разговора я высказался в том смысле, что не очень понимаю решение нашего командования срочно прийти на помощь союзникам, столкнувшимся в последнюю военную зиму с мощным контрнаступлением немцев в Арденнах. «Верность союзническому долгу» (так официально мотивировалось это решение) я воспринимал как аргумент недостаточно убедительный и, во всяком случае, не оправдывающий многих лишних потерь, неизбежных для нас в ходе наступления, начатого ранее запланированного времени и, следовательно, не в полной мере подготовленного. Тем более, с учётом ещё очень свежей в нашей памяти истории бесконечных проволочек с открытием союзниками второго фронта, что делало соображения «верности союзническому долгу» совсем уж мало впечатляющими.

Автор этой книги — летчик-испытатель. Герой Советского Союза, писатель Марк Лазаревич Галлай. Впервые он поднялся в воздух на учебном самолете более пятидесяти лет назад. И с тех пор его жизнь накрепко связана с авиацией. Авиация стала главной темой его произведений. В этой книге рассказывается о жизни и подвигах легендарного советского авиатора Валерия Павловича Чкалова.
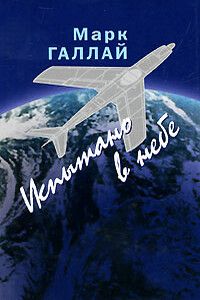
Легендарный летчик Марк Лазаревич Галлай не только во время первого же фашистского налета на Москву сбил вражеский бомбардировщик, не только лично испытал и освоил 125 типов самолетов (по его собственному выражению, «настоящий летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что летать не может»), но и готовил к полету в космос первых космонавтов («гагаринскую шестерку»), был ученым, доктором технических наук, профессором. Читая его книгу воспоминаний о войне, о суровых буднях летчика-испытателя, понимаешь, какую насыщенную, необычную жизнь прожил этот человек, как ярко мог он запечатлеть документальные факты, ценнейшие для истории отечественной авиации, создать запоминающиеся художественные образы, характеры.

Яркие, самобытные образы космонавтов, учёных, конструкторов показаны в повести «С человеком на борту», в которой рассказывается о подготовке и проведении первых космических полётов.
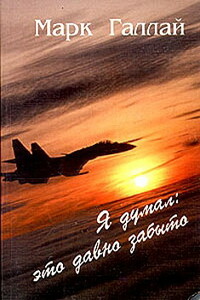
Эта рукопись — последнее, над чем работал давний автор и добрый друг нашего журнала Марк Лазаревич Галлай. Через несколько дней после того, как он поставил точку, его не стало…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.