Вспять - [6]
В соседнем шкафу антресоли — старая обувь. Горы старой обуви. С чьей подошвы давно слетела на пол или, взметнувшись, осела на стенах и потолке прихожей пыль уличная. Много ее на подошвах новой обуви, преуспевшей в но2ске. И просто на полу — много. Она врывается через двойную дверь, а там — пыль домашняя. Вот настанет день — и не будет никакой домашней пыли! Завалит ее кусками земли, частицами гор. Потому что горы — они растут. Иногда очень сильно растут. Так, что земля трясется. И дома рушатся. Только стена, обклеенная домашними обоями, предстанет взглядам прохожих. Будет обдуваться ветрами. Заливаться дождем. Если останутся ветры и дождь. Если прохожие останутся.
И тогда с верхних — верхних самых — полок антресоли повалятся банки. Стеклянные. К лету пустые. А потом — полные. Вареньем. Соленьем. Маринадом. Варенье из урюка — самое ходовое, наиболее вероятное содержимое банок. И желудков. Ведра урюка перемывались в нашей ванне, чтобы затем вскрывать его, вынимать пухлую, заостренную с одного конца косточку, липкую, в мякоти. Тазы очищенных мясистых скорлупок, засыпанных сахаром и пустивших сок, долго варились и пенились. Пока не превращались в янтарные бляшки, густо-густо сидящие в тягучем янтарном сиропе. Иногда вместе с урючными половинками в сиропе плавали сушеные ядрышки из урюковых же косточек.
Так варился только плотный, слегка недозревший урюк. Хорошо созревший и даже перезревший — вываривался до состояния повидла. И тоже закатывался в банки.
Варенье персиковое (и персиковое повидло), варенье вишневое (с косточками и без, с сахаром или без сахара, к чаю и в пироги), варенье из желтой черешни, из айвы — с кусочками апельсиновой цедры, варенье грушевое, клубничное, малиновое (темное и густое, приготовленное как обычное варенье, и ярко-алое — прокипяченная малина с сахаром), и редкие гости — варенье из инжира, варенье из черной смородины.
Из яблок обычно готовили разнообразные повидла: из разных сортов, с разной сахаристостью, разным помолом: что-то пропускали через мясорубку, что-то перетирали через терку.
И еще — компоты: яблочные, грушевые, вишневые, наконец, смешанные.
Банки со сладостями — трех-, двух-, пол-литровые и литровые — заполняли самый верх прихожей. И мало кто догадывался, входя, какие богатства скрывают невзрачные желтые дверцы.
Конечно, соленья — это не такое богатство. Может, совсем даже не богатство. Но и его было вдоволь. Так же ведра огурцов купались в ванне, прежде чем с перцем (кусочками красного и шариками черного), с чесноком, зонтиками укропа, пучками гвоздики и кучей всяких пряностей закатывали их в пузатые банки. Вместе с огурцами (и отдельно) бок о бок мариновались продолговатые помидорчики и бледные патиссоны. И не просто так укладывались они в банки, а в строго установленном порядке, чтоб как можно меньше свободного места им оставалось, чтоб и пошевельнуться не смогли!
Конечно, далеко от варенья по своей ценности отстояла какая-нибудь баклажановая икра, но ведь и она производилась у нас в огромных количествах. Правда, я ее не ел. И много чего не ел. Например, вишневое варенье, которого тоже всегда было много. И вишню вообще. Какое-то она вызывала во мне отвращение. А черешня, несмотря на их похожесть, — нет, не вызывала. И хорошо, что еще из хурмы никакого мы варенья не варили. Это было бы для меня большое мученье. Самый страшный, самый нелюбимый мой фрукт — это хурма. Даже внешний вид отталкивает, особенно сочетание ярко-рыжей или потемневшей оранжевой кожицы с разлапистой плодоножкой! В самом виде хурмы было что-то развратное, что-то дикое и животное. Не говоря уже о развратном ее вкусе (однажды меня таки заставили ее попробовать, но только однажды). Единственным, с чем я мирился в хурме, были ее косточки. Но сухие и нелипкие. А только что выгрызенные кем-нибудь из мякоти, они вызывали у меня приступы тошноты.
Надо на обои почаще глядеть, чтобы не тошнило. Следить за их повторяющимся рисунком: черточками, цветочками, зигзагами, розетками, точечками… За пятнами человечьей крови. От убитых комаров. Это в жилых комнатах. А в прихожей обои были клеенчатые. Изображали темную кирпичную кладку, а на ней — горящие свечные светильники. Нарисованные, конечно. Много-много свечей — от пола до потолка. И зачем столько светильников?
Так вот, интереснее всего — рассматривать «кирпичики», их «узор». Вроде ничего там нет, беспорядочные пятна, а вглядишься — и начнут вырисовываться искореженные пещеры, а в них из темноты выступают разные рожи: добрый череп с бородой, хохочущая старуха с длинным крючковатым носом и провалившимися щеками, пятиногие собачки, конские головы, скрюченные ладони.
А как выйдешь за двойную дверь (сперва за деревянную, обитую рифлеными досочками, затем — за железную), как выйдешь, так там никаких тебе обоев. Первый этаж подъезда. Серые бетонные стены. Двери лифта. Двери в две квартиры. Шесть ступенек. Ровно шесть. Ведут от входа в подъезд ко входу в нашу квартиру. Дверь в дверь. Два раза по три.
Два раза рыжий кот оказывался в ничейном пространстве подъезда. И забирался на верхние этажи. Пешком по серым бетонным ступеням.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
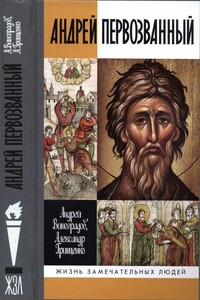
Книга об апостоле Андрее по определению не может быть похожа на другие книги, выходящие в серии «ЖЗЛ», — ведь о самом апостоле, первым призванном Христом, нам ровным счётом ничего (или почти ничего) не известно. А потому вниманию читателей предлагается не обычное биографическое повествование о нём, но роман, в котором жизнь апостола — предмет научного поиска и ожесточённых споров, происходящих в разные исторические эпохи — и в начале IX века, и в X веке, и в наши дни. Кто был призван Христом к апостольству вместе с Андреем? Что случилось с ним после описанных в Новом Завете событий? О чём повествовали утраченные «Деяния Андрея»? Кто был основателем епископской кафедры будущего Константинополя? Путешествовал ли апостол Андрей по Грузии? Доходил ли до Киева, Новгорода и Валаама? Где покоятся подлинные его мощи? Эти вопросы мучают героев романа: византийских монахов и книжников, современных учёных и похитителей древних рукописей — все они пишут и переписывают Житие апостола Андрея, который, таинственно сходя со страниц сгоревших книг, в самые неожиданные моменты является им, а вместе с ними — и читателям.
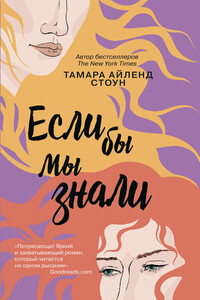
Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.
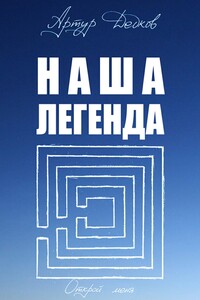
А что, если начать с принятия всех возможностей, которые предлагаются? Ведь то место, где ты сейчас, оказалось единственным из всех для получения опыта, чтобы успеть его испытать, как некий знак. А что, если этим знаком окажется эта книга, мой дорогой друг? Возможно, ей суждено стать открытием, позволяющим вспомнить себя таким, каким хотел стать на самом деле. Но помни, мой читатель, она не руководит твоими поступками и убеждённостью, книга просто предлагает свой дар — свободу познания и выбора…

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…
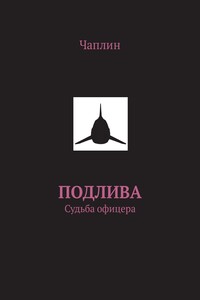
В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?