Всего лишь женщина. Человек, которого выслеживают - [40]
IV
…Да, на улице была Леонтина. Лампьё увидел сквозь ставни, как она прошла. Он стоял, не шевелясь, ожидая, что она вернется, как это не раз бывало… Бедняжка ничего не подозревала. Она шла, согнувшись под дождем. Она промокла до костей, башмаки ее хлюпали, но она как будто ничего не замечала, уставшая до такой степени, что не способна была отдавать себе отчет в чем бы то ни было. Одна мысль, одна навязчивая идея управляла ею, точно толкала ее вперед. Лампьё, выжидающий, пока девушка поравняется с фасадом дома, не слышал ее шагов. Это представлялось ему странным. Он недоумевал, каким образом он мог, оставаясь в своем подвале, узнать Леонтину по ее шагам, если она двигалась бесшумно, подобно тени. Его это пугало, так как ему казалась необъяснимой эта способность медленно и неслышно передвигаться, незаметно проскальзывать и сразу сливаться с ночной тьмой. Далеко ли она отойдет, прежде чем повернет назад? Лампьё не знал, он мог только делать тысячи предположений. И затаив дыхание, не шевелясь, он стоял на месте, боясь, как бы Леонтина не заметила этой странной слежки.
Но отчего же она так долго не возвращается?! Лампьё разбирала досада и охватывало болезненное беспокойство. Сквозь узкую щелку в ставне он мог разглядеть только небольшой участок асфальтовой мостовой, примыкающий к лавке. Может быть, Леонтина остановилась немного поодаль, вне его поля зрения? Но как он ни напрягал слух, он едва мог различить в смешанном гуле, доносившемся из района рынка, лишь грохот колес ручных тележек да звук рожков автомобилей. Время от времени резкий порыв ветра заливал ставни дождем и отбрасывал на мостовую дрожащую тень фонаря. Больше он ничего не видел и не слышал. Улица была пустынна, не было заметно никакого движения, никаких звуков, кроме порывов ветра; да и ветер порой затихал, и только дождь равнодушно посылал свои прямые струи, точно он еще в глубине времен обрек эту заурядную сонную улицу потопу. Прислушиваясь к мерному падению дождя, Лампьё терял нить своих мыслей; страх, порожденный необъяснимым желанием вновь увидеть Леонтину и мыслью, что она может обмануть его ожидания, мешал ему припомнить, зачем стоит он здесь, у закрытых ставней лавки, в ожидании чего-то неведомого. Конечно, у него была определенная цель, и он не терял надежды ее достигнуть. Но что будет потом? Подойдет ли он к этой девушке? Заговорит ли с ней?.. У него не выходила из головы фраза, брошенная Фуассом: «если на него наложат лапу, это будет, как всегда, делом рук женщины». Лампьё повторял про себя эту фразу. Каждое слово ее, каждая буква отчетливо запечатлелась в его памяти… Что он будет делать? Раз уж он поддался властной потребности узнать, кто прогуливается там, у лавки, мог ли он быть уверен, что окажется в силах побороть искушение и не подойти к этой женщине, не заговорить с ней о гнетущей его тоске? Он был далеко не уверен в этом… Но если он себя выдаст, если ее подозрения сменятся уверенностью? Тогда он пропал! Фуасс, сам того не сознавая, предупредил его… «Если на него наложат лапу…» И Лампьё все повторял и повторял эту фразу, точно читая по слогам: «Если наложат лапу…»
Он как будто перестал понимать ее смысл… А между тем она была полна смысла… страшного смысла… «На него наложат лапу»… На него — на Лампьё. Почему бы нет? Разве он забыл про свое преступление? Нет, не забыл — он просто о нем не думал… или почти не думал. Его тягостные мысли порождались не столько воспоминанием об убийстве, сколько воспоминанием о веревочке и смутной мыслью о причастности к этому делу Леонтины… Возможно ли это? Могут ли убийцу не терзать угрызения совести? Однако, Лампьё не испытывал этих терзаний: он не знал еще, что представляют собой угрызения совести… Сначала, в первые два-три дня после убийства, к чувству страха у него примешивалось своего рода удивление. Потом страх заполнил его целиком. Но в то же время его не покидала неопределенная надежда, что до него не доберутся, если он ни в чем не изменит своего образа жизни. Ему казалось, что, по какому-то молчаливому соглашению, совесть не нарушит обычного хода его жизни… Считая, что с этой стороны ему опасаться нечего, Лампьё направил свои мысли в другую сторону: он стал бояться, как бы его не выдала невольная свидетельница; и все его заботы сосредоточились на том, чтобы этого избежать.
«Если на меня наложат лапу, — чуть не вслух повторял он, — наложат лапу…» Эта мысль была невыносима. Казалось, будто кто-то неведомый преследует его, насмехается, издевается над ним за то, что он поджидает Леонтину, не отдавая себе отчета в последствиях встречи с ней. Чего он хотел? Чтобы она выдала его? Конечно, именно она была та женщина, на которую намекал Фуасс. Неужели Лампьё не чувствовал, что она — его злейший враг? Без сомнения, чувствовал, сознавал, больше того: был убежден в этом. Но к ужасу у него примешивалось какое-то непостижимое удовольствие — и он был бессилен отделить одно чувство от другого. Он смаковал их оба с каким-то мрачным наслаждением.
Если бы Леонтина пришла сейчас, Лампьё, несомненно, признался бы ей во всем. Дверь лавки, которую он приотворил, открывала перед ним более обширное поле зрения. Но Леонтины не было видно. Его охватило раздражение, возраставшее по мере того, как время шло, не принося ему ничего, кроме неясных и отдаленных звуков да изредка — свистков паровоза, тянущего вагоны через бульвар Сен-Мишель к рынку… Не застряла ли Леонтина в каком-нибудь баре? Или, может быть, она наблюдает за тележками, подвозящими к ларькам груды овощей? Лампьё представлял себе, как она, такая слабенькая, стоит среди толпы и смотрит невидящим оком на волнующийся людской поток. Что, кроме этого потока, могло заинтересовать ее?.. И к раздражению Лампьё примешивалась своего рода ревность — горькая, смутная, угрюмая… В самом деле: с тех пор, как он увидел Леонтину и уверился в том, что именно она каждую ночь бродит перед пекарней, ему стало казаться, что эта девушка ему принадлежит. Чувство, которое он не анализировал, внушало ему мысль о каких-то правах на нее. Он еще не имел этих прав, но считал их неоспоримыми, потому что, не соверши он преступления, разве поддалась бы Леонтина странному влечению, которое ею овладело? Конечно нет. Но почему же в таком случае она и сегодня не совершает своего таинственного обхода?.. Почему?..
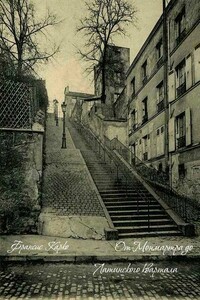
Жизнь богемного Монмартра и Латинского квартала начала XX века, романтика и тяготы нищего существования художников, поэтов и писателей, голод, попойки и любовные приключения, парад знаменитостей от Пабло Пикассо до Гийома Аполлинера и Амедео Модильяни и городское дно с картинами грязных притонов, где царствуют сутенеры и проститутки — все это сплелось в мемуарах Франсиса Карко.Поэт, романист, художественный критик, лауреат премии Французской академии и член Гонкуровской академии, Франсис Карко рассказывает в этой книге о годах своей молодости, сочетая сентиментальность с сарказмом и юмором, тонкость портретных зарисовок с лирическими изображениями Парижа.

Распутная и трагическая жизнь оригинальнейшего поэта средневековья — человека, обуреваемого страстями, снискавшего в свое время скандальную славу повесы, бродяги, вора и разбойника, дважды приговоренного к повешению и погибшего по воле темного случая — увлекательно, красочно, с глубоким психологизмом описана в предлагаемой книге известного французского романиста, мастера любовного жанра Франсиса Карко (1886–1958).
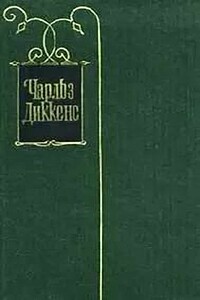
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
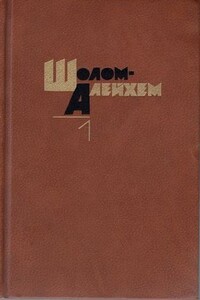
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.