Время и люди - [2]
Через месяц я получил коротенькое письмо от Михаила Рощина, работавшего в то время в журнале, каждый номер которого становился событием всюду, не только в нашей Караганде:
«Дорогой Герт! Мне грустно вас огорчать, но роман мы не возьмем...»
Из алма-атинского «Простора» (бывший «Советский Казахстан») мне сообщили:
«Школьники у вас в романе изолированы от всех и вся. Ни райком комсомола, ни партийная организация никакого положительного влияния на жизнь школы не оказывают. Наоборот, они мешают, глушат инициативу учащихся, морально уродуют их. И хотя события относятся к прошлым временам культа личности, тем не менее показывать их только с одной мрачной стороны — крайность».
В Москве, проживая последние деньги, я иногда заходил к Белинкову — посоветоваться о своих делах и заодно пообедать. Стояла осень, светлые, теплые дни с легкими паутинками, плывущими в золотистом воздухе скверов, перемежались унылыми, зябкими дождями. На мне было, как теперь я сознаю, довольно диковинное сооружение из коверкота — демисезонное пальто, переделанное из отцовского, в свою очередь переделанного когда-то из пальто дяди Ильи... На внутреннем кармане сохранился роскошный, вышитый шелком вензель «ИГ». Я носил на своих плечах историю нашей семьи, она согревала, поднимала дух.
Белинков читал мне главы из книги об Олеше, и у меня, словно судорогой, перехватывало дыхание. Я сказал ему, что это не исследование художественного творчества, а скорее философский трактат, звучащий в иных местах как прокламация... Белинков искоса, с неожиданным интересом, вгляделся в меня, усмехнулся тонкими блеклыми губами...
— Говорят...— он суеверно поднял глаза к лампе над столом, на которой взамен абажура светилась многоцветная стеклянная оболочка какого-то старинного фонаря.— Говорят... Не сглазить бы... Но скоро в одном журнале... будет опубликовано одно произведение... После которого всем нам станет легче жить...— Он посмотрел на меня загадочно.— А может — и труднее... Да, в нашем любезном отечестве иной раз случаются и такие вещи... Но если это все-таки произойдет, то в литературе появится новая точка отсчета.
Через два месяца, в ноябре, появился знаменитый одиннадцатый номер «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына. За первым тиражом — чего никогда не случалось — вышел второй тираж того же номера. Из уст в уста перелетало, что Твардовский отвез повесть Хрущеву, тот прочитал за ночь и дал добро. Вскоре с той же стремительностью «Один день» напечатали в роман-газете, затем — отдельной книжкой небольшого формата. Караганда бурлила. Не было человека, который бы не прочитал Солженицына, не имел своего мнения на его счет, не торопился бы это мнение высказать — на улице, на работе, в театре или в кафе. Мало кто задумывался над глубинной сутью повести, не до того было: множество людей жило до того как бы в некоем Зазеркалье — по ту сторону реального мира, в той стране, которая наверняка существовала, как существует вторая сторона луны, но еще никогда и никем не была описана, побывавшие там отмалчивались, не смея ничего рассказать... И вот открылось то, чем жили миллионы людей годы и годы. Жили — и гибли, пропадали, проваливались в небытие...
В горячем вихре удивления, горечи, надежд, споров, который клубился над страной, ко мне донесло листок с грифом Казгослитиздата: меня приглашали приехать в Алма-Ату для переговоров по поводу романа. Спустя неделю я сидел в библиотеке Союза писателей, размещавшемся в одном здании с издательством, через стол, напротив, сидела необыкновенно красивая женщина, до того ослепительная, что на нее было больно смотреть, мой редактор (так она представилась при встрече — «Попова Зоя Васильевна, ваш редактор»), и рядом — полноватый, плечистый человек с круглой, в рыжеватых волосках, головой, в круглых, весело поблескивающих очках на озорно торчащем курносом носе. На его лице попеременно появлялись две улыбки: одна — смущенная, застенчиво-ребячливая, и вторая — саркастическая, разящая, на грани клокочущей внутри, едва сдерживаемой ярости... Это был Николай Ровенский, в ту пору — заведующий русской редакцией. Год назад он приезжал в Караганду, мы познакомились.
— По-моему, — сказал он, улыбаясь первой из своих улыбок, — ты написал вещь, которая тянет на настоящую литературу. Хотя, конечно, борьба предстоит, и немалая... — Сквозь первую улыбку проступила вторая, адресованная неизвестно кому.
Я уехал из теплой, лукавой, капризной зимней Алма-Аты — к себе в Караганду. Над городом дымила вьюга, на улицах выросли сугробы — где по пояс, где в человеческий рост. Я рассказывал жене и друзьям о лучезарных алма-атинских улыбках, о неожиданно возникшей надежде — и сам не очень-то верил своим словам.
В конце зимы развернулась кампания против абстракционистов, которая вскоре превратилась в погром всей молодой литературы. Газеты злобствовали, заставляя вспоминать о волне «всенародного гнева», накрывшую несколько лет назад Пастернака. Теперь обрушились на Евтушенко, Вознесенского, Аксенова, а заодно, поскольку аппетит приходит во время еды, и на «Новый мир», Виктора Некрасова, Эренбурга, Ромма... И все это — стоило Никите Сергеевичу, «освободителю», подать команду, махнуть платком!.. В Караганде трещали традцатиградусные морозы, бесилась метель... Похоже, «оттепель» кончалась, наступил гололед. На местах сладострастно терзали собственных аксеновых и евтушенок. Поэт-пьянчужка, заехавший в «шахтерскую столицу» из Алма-Аты слегка подкалымить, с пафосом распинался в «Соц. Караганде» по поводу «некоего Авербуха», в чьих стишках «процветает абстрактный гуманизм», который куда-то уводит, от чего-то отвлекает советский народ, занятый созидательным трудом... Саня Авербух, едва закончив десятый класс, приехал из Одессы в комсомольском эшелоне в Караганду, работал строителем, его знали в городе, стихи печатала та же «Соц. Караганда», не говоря уже о «Комсомольце». Под вопли об абстракционистах, о Вознесенском и Фальке сталинисты сводили счеты со своими противниками, наступила расплата за 1956 год. Слово «ревизионизм», как наточенное, заостренное лезвие кинжала, было изобретательно пущено в ход. Хрущев сам подпиливал сук, на котором сидел, его падение было предопределено. Наша молодая пишущая братия в Караганде была растеряна, негодовала, пыталась понять, что происходит — но мало было видно сквозь обросшие инеем, замороженные окна, сквозь воющую, валящую с ног метель...
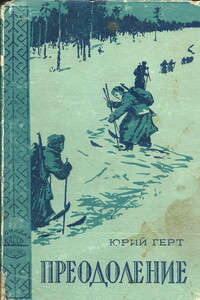
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман, вышедший в 1964 году и вызвавший бурную реакцию как в читательской, так и в писательской среде - о действительных событиях, свидетелем и участником которых был сам автор, Юрий Герт - всколыхнувших тихий город "волгарей" Астрахань в конце сороковых годов, когда юношеские мечты и вера в идеалы столкнулись с суровой и жестокой реальностью, оставившей неизгладимый след в душах и судьбах целого поколения послевоенной молодёжи.
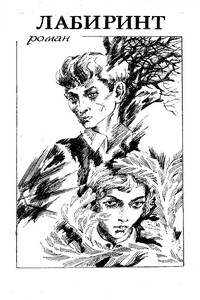
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
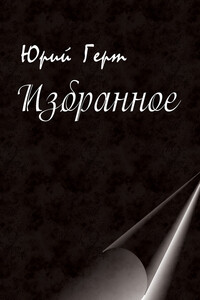
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.