Возвращение - [5]
В ту пору психология Герцена предельно зависела от единомыслия и единочувствия с окружающими. Остаться без сподвижников означало для него тогда оказаться как бы без части своей души. Москва почти опустела для него теперь. И — новый гробик нес он осенью прошлого года на своих руках… Настроение его жены в последнее время стало исступленно тоскливым и тревожным. Предчувствия были и у него. Да что там опасения и предчувствия — трезвый учет обстоятельств, говоривший, что дальше их может ожидать только худшее… Все более регламентированными и подконтрольными становились все сферы деятельности в России, отсюда любая попытка действия или самовыражения приведет его к новой ссылке.
…И вот месяц назад, сравнительно богатый после смерти отца тридцатипятилетний человек и известный литератор, он добился наконец приема лично у Дубельта, ставшего к тому времени шефом жандармов, с ходатайством о путешествии за границу после очередного отказа в том государя.
Да были ли те отказы? — рискнул спросить он. (Прав Чаадаев, ославленный сумасшедшим за безысходное свое заключение в «Философическом письме», высказавший, взвесив все: надежды нет, — Петр Яковлевич Чаадаев, измученный надзором и заметивший о его деятелях: «Какие они все шутники…»)
Заносчивый и пристальный взгляд Дубельта стал укоризненным. Принесли дело, и он показал на полях герценовского прошения карандашную надпись рукой е. в., закрепленную сверху для прочности прозрачным лаком: «Рано».
— Ну вот же, а вы сомневались, — сказал он.
В лице у «дядюшки-жандарма» было учтивое сочувствие и смышленость, очень жесткая. Он взвешивал. Воистину многое «скрывал и покрыл тут голубой мундир». Он видел в Герцене вариант своей судьбы и весьма желал бы для него такого же, как у себя, исхода. Бывает потребность еще раз подтвердить для себя правильность принятого когда-то решения… Да помимо того симпатии его были скорее на стороне людей мыслящих и неробких: направленные в нужное русло, они способнее и гибче прочих. К тому же Искандер — это имя, и изрядно намытарен…
Дубельт посоветовал ему, как, подступившись с другого конца, получить наконец разрешение на выезд: возвращаться в Москву и подать прошение о снятии надзора; подразумевалось, что он поддержит это прошение. Тогда не нужно будет визы государя. Да и ехать себе на воды в Европу… Все это подсказал Александру лично Леонтий Васильевич, посулив ему тем самым в недальний срок успокоение, заботы о семействе и приятную умеренность взглядов.
…Лошади тронули. До Кенигсберга — на перекладных. Вперед! Вперед!
Глава вторая
Я иду искать
Давно уже окончательно простились с двуглавым орлом на воротах почтовых станций. И потянулись немецкие поствахты, впечатления от которых оказались несколько обескураживающими: с заморенными клячами и колымагами, с перевалкой вещей, что ни станция. Александр ожидал, что «начнется заграница», в том смысле, чтобы наконец что-то иное, чем тягостно знакомое, оставленное позади. Однако немецкий деловой порядок, по крайней мере с внешней стороны, обращенной к иностранцам и путешественникам, показался ему изрядно преувеличенным, каково-то будет с прочими мифами?
Все равно это была дорога, перемены!..
В пути они дремали урывками, ели в вокзалах салаты с оливковым маслом и уксусом и вновь глядели по сторонам из окон дилижанса. Скоро они совсем обжились в дорожных гостиницах, довольно одинаковых: всюду диваны, кресла и стены обтянуты штофом с рисунками на библейские темы; бумажные ширмы, подсвечники — оловянные и один бронзовый, примкнутый цепочкой.
Но вот наконец отель в Берлине. С теми же подсвечниками и с зеркалами во всю стену.
Февраль стоял промозглый и дождливый. Берлин в пелене мороси показался им однообразным и томительным. Понравился Герцену и его спутникам огромный и красиво спланированный сад Тиргартен, в котором, как сообщил гид, в мае зацветут кремовыми свечами каштаны и бродили сейчас под зонтами дети с боннами.
Видимо, Александру и не могло понравиться здесь. Ехал он и хотел добраться — в Париж, знакомый, казалось бы, до последнего камня на мостовой по книгам и полотнам, Париж — место обитания мечты… Манили древние стены «столицы мира», возможность увидеть живущих там сейчас прежних своих знакомцев, многовековые традиции вольного слова.
Его дамы очень устали в дороге. У Натали голос был слегка монотонным от утомления. Но решили скорее ехать дальше.
Снова погрузились в дилижанс. Свистнул в дудку кондуктор. Герцен шутливо ободрял своих спутниц:
— Да уж, сударыни мои, это не прогулочный дермез… это куда более тряско!
Простое милое лицо Маши Эрн осунулось за время пути и не выглядело теперь таким оживленным, как обычно. Но она с интересом смотрела из окна экипажа, с терпеливой улыбкой поясняла увиденное детям. Для нее немыслимо было бы остаться в Москве без семейства Герценов, пусть даже путешествие продлится несколько лет. В России у нее оставались мать Прасковья Андреевна и братья.
Сосланный в Вятку молодой Герцен бывал когда-то в их доме как приятель братьев и давал уроки двенадцатилетней тогда Маше, поскольку во всем городе не было ни одной школы для девочек. Потом по совету Александра они перебрались в Москву.

Рассказ о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году а городе Орехово-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова. Для младшего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
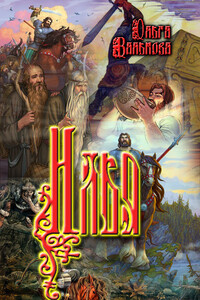
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
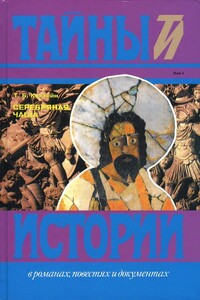
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
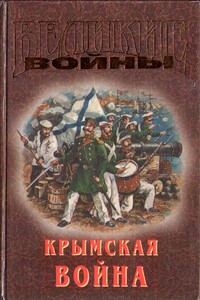
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.

