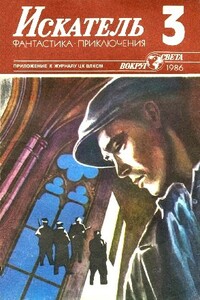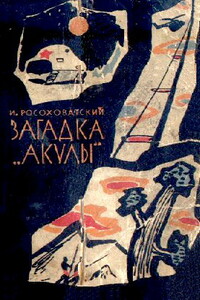— Да, да, извините. Хочу спросить вас…
Он поводит плечами и вдруг сутулится, становится словно меньше, прикрывает глаза короткими ресницами и говорит так тихо и сокровенно, будто обращается не ко мне, а к самому себе:
— В принципе бессмертие и всемогущество — это хорошо. Но хорошо ли быть бессмертным и могущественным? Нравится ли вам ваша бесконечная жизнь?
Опасаясь, что я неправильно пойму, он быстро добавляет:
— Жизнь человека коротка, а потому и неповторима. Это заставляет ценить каждый миг. Вот я думаю: успею ли перевоспитать Петю? Закончит ли институт Сергей? Завершу ли начатую работу? Я всегда спешу, понимаете? Острее чувствую радость и боль. Мне не бывает скучно, понимаете?
Я киваю головой: что ж, обычный вопрос из категории так называемых «философских».
— Понял вас. Вы хотите знать: не скучно ли, не тягостно ли быть бессмертным, есть ли в бессмертии не только смысл, но и приятность?
Его шея напрягается, кадык двигается, на смуглых скулах проступает румянец. Мой контрвопрос попал в цель.
— Нет, не скучно, не тягостно. Время жизни зависит от цели жизни…
Максим морщит лоб, вспоминает читанное и слышанное…
— В этом отношении все обстоит довольно просто и однозначно. Природа создавала человека для тех же «целей», что и других животных: для борьбы за существование в условиях ограниченного пространства одной планеты. На этом пути в процессе эволюции должны были появиться и выкристаллизоваться наиболее совершенные варианты информационных систем — живых организмов. Отсюда и короткий срок жизни, спасающий от перенаселения устаревшими формами, необходимый для быстрого перебора вариантов. Но вы все это знаете лучше меня, — я решил ему польстить, — и нет нужды говорить об этом подробно. А меня и других сигомов вы, люди, создавали для иной цели познания и совершенствования окружающего вас мира. Мир этот огромен, разнообразен, сложен, и, чтобы успешно познавать его, нужен другой организм и другие сроки. А уж познание и творчество, как мы знаем, наскучить не могут…
Встречаю его колючий — из-под разлапистых бровей — взгляд, и мне становится стыдно. Да, да, я сказал совсем не то, что ему нужно. Эта моя проклятая прямолинейность совсем не годится в разговорах с людьми. Ведь он спрашивал не просто для того, чтобы получить информацию. Его, как и других людей, страшит краткость жизни, ему нужно все время как-то оправдывать ее, приукрашивать, находить выигрышные стороны, чтобы утешать себя. Он и ко мне обратился за утешением. А я, созданный такими же существами, как он, являющийся воплощением их мечты о всемогуществе и бессмертии, обязан был придумать утешение. Так я отдал бы крохотную частичку своего долга…
— Впрочем, — мямлю я, — бывают у меня мучительные минуты, часы, когда…
И опять я недооценил Максима. Он мягко улыбается, как тогда, когда говорил о детях:
— Благодарю. Вы дали исчерпывающий ответ, хотя… — он не удержался от выпада — так мне тогда казалось, — есть на свете вещи поважнее бессмертия…
Странная эта фраза застряла в моей памяти, хотя я представлял, каково ему жить, помня о близкой смерти, сколько это стоит горьких раздумий, мук, терзаний, мужества. И ведь еще нужно ему, школьному учителю, утешать других, разъяснять, вселять веру. Мог бы я так?
Сильнейший толчок едва не сбил меня с ног. Успеваю подхватить и поддержать Максима. Шахматные фигурки с дробным стуком рассыпаются по полу, который вмиг становится наклонным. Раздается скрежет металла, треск пластмассы. И прежде, чем включилась тревожная сирена, я за доли секунды анализирую происходящее и предполагаю, что лайнер столкнулся с чем-то огромным…
Воет сирена. Из динамиков слышится успокаивающий голос: лайнер налетел на покинутый баркас, водолазы уже заделывают пробоину, пассажиров просят не волноваться.
Но по изменившемуся надрывному шуму двигателей, по тонкому свисту насосов я понял, что авария гораздо серьезней, чем о ней говорят.
Усаживая Максима в кресло, успокаиваю словом «извините» и бросаюсь на палубу. Дорогу преграждает человек в форменке моряка.
— Я помогу водолазам.
Он мотает головой:
— Судно тонет. Спускайтесь к спасательным шлюпкам.
По радио передают обращение к пассажирам: не волнуйтесь, возьмите самое необходимое, проходите по левому борту к шлюпкам.
Оказывается — самое худшее еще впереди. Часть шлюпок смыло с палубы и унесло волнами, оставшиеся не вмещают всех пассажиров. А спасательные суда и вертолеты смогут прибыть лишь через полтора часа. Температура же воды за бортом — всего шесть градусов по Цельсию. Капитан приказал подготовить для команды плотики, но они пригодны лишь для очень умелых и закаленных пловцов…
Первыми сажают в шлюпки детей, стариков, женщин. Некоторые пассажиры помогают морякам. Здесь я снова встречаюсь с Максимом. Он передает стоящему в шлюпке матросу девочку, которую мы повстречали в шахматном салоне. Девочку бьет мелкая дрожь, она всхлипывает, а Максим говорит ей что-то веселое, его полные губы даже складываются в подобие улыбки.
— Теперь вы, — говорит матрос и протягивает ему руку.
Максим оглядывается, замечает меня, окликает:
— Давайте в шлюпку!