Воздушный путь - [8]
Мелитта, Мелитта, пчела, ты когда-то больно меня ужалила, но ты также дала мне много сладкого меда. Мы потеряли друг друга безвозвратно, и мы давно уже другие в бесчисленности лиц и вещей. Но если ты можешь еще слышать, услышь меня. И услышь меня: я любил тебя всегда.
>1908
РЕВНОСТЬ
Ревность давно прозвали зеленоглазым чудовищем, про зависть же говорят, что у нее желтый огонь в глазах. Не знаю в точности, как это нужно понимать относительно зависти, в прямом ли смысле или переносном, то есть в том смысле, что зависть сжигает. Но что при вспышке ревности у человека в глазах загорается зеленый свет, это мне известно доподлинно. Зеленый, зеленый, видел много раз. Так хорошо запомнил, что даже во все зеленые глаза гляжу с невольной тревогой. И потому, что мне нравятся зеленые глаза, и потому, что пугаюсь в них притаившегося там навсегда традиционного чудовища. Задремать — задремало, а ну как проснется? Ибо все зеленоглазые поистине ревнивы. Хоть этого иногда и долго не видишь.
Впрочем, у той, что сейчас мне вспоминается, глаза были серые, светло-серые. А еще у другого, у того, что сейчас мне вспоминается, глаза были светло-голубые. Пожалуй, если вспоминать, так припомнишь, что и в Черном море, как в иных морях, горит огонь маяка, и во всякого цвета глазах загорается зеленый огонь. Но почему именно зеленый? Цвет жизни. Или это потому, что, пока мы живем в этой жизни, мы вечно бродим в слепоте, а что же более слепо, чем ревность?
Может быть. Ничего не знаю. Приходит это бешеное чувство нелепо и внезапно. Вдруг словно слепень ужалит человека. И начнет метаться. Не видит, где ступает. Не видит, что берет, что роняет, что разбивает безвозвратно. Словно пьяный. Словно сумасшедший.
Я, знаете ли, ревность ненавижу и презираю. Вы говорите, что художник, как в игре в фанты, во всю свою жизнь должен «да» и «нет» не говорить, черного и белого не называть. Это, конечно, так. А то за утверждением или за отрицанием — живой жизни не увидишь, уйдет, как песок уходит между пальцев сжатой руки. Но я ведь сейчас не как художник говорю, а просто как человек, который кое-что видел в жизни.
Я, впрочем, презираю лишь одну ревность — выявленную, а их всегда две бывает, тайная и явная. Тайная еще злее. Одна вовне ранит, другая внутрь. Одна другого ударяет и бросает в него грязью, комками грязи и крови, а другая собственное сердце жалит, точит, грызет, в слова не уходит, в речи не находит облегчения, и так до смерти может извести. Известное дело тихое помешательство всегда опаснее буйного.
Вы хотите узнать, как изумруды сии загорались в глазах у сероглазой? Нет, сударь мой. Об этом мне вспоминать сейчас не хочется. Уж очень долго я в этом сиянье побыл. До омерзенья. До такой ненависти, что ни перед каким бы преступлением не остановился, лишь бы избавиться от этих драгоценных камней. Пусть их там сияют где-нибудь в другом месте. Я человек тихий, и не всякие украшения в жизни люблю. О голубых же глазах, пожалуй, могу вам рассказать. Голубой цвет с зеленым и близок. Как Небо близко к Земле. И как Дьявол любит украшать собой храмы.
Я только об одном маленьком случае расскажу. Было это в очень далекие дни. И я и мой товарищ были студентами-первокурсниками. Святки. Первые совсем свободные Святки в маленьком провинциальном городке. Вы человек столичный. Этого очарования не знаете. В смешном городке, где все наперечет, мы совсем особые герои. Студенты, во-первых, с этим не шути, а во-вторых, мы оба из числа избранников: я — сын помещика, в некотором роде краса местного дворянства, а мой товарищ — сын богатейшего местного купца, и не какого-нибудь лавочника, а коммерсанта с образованием и со вкусами. Юноши мы были начитанные, что ни слово, то Байрон и Шекспир. Тогда вкусы ведь были иные. В каждом доме желанные гости, мы, однако, не особенно удостаивали своих земляков посещениями. Избрали дом-два, ими и ограничивались. Большую же часть времени проводили — голубоглазый мой друг у девушки, которую он любил, скажем, по имени Ольга, а я у девушки, которую я не то любил, не то не любил, по имени, скажем, Лиза. Ольга и Лиза были подруги по гимназии, но Лиза была девица серьезная и была на педагогических курсах, а Ольга нрава более светлого и веселого, ее прочили в театральные звезды, и она была в драматической школе. Все вместе мы приехали в этот городок на Святки, и проводили время то попарно, то все вместе, то я вдвоем с моим другом. Мой голубоглазый друг был весьма победительный юноша. Он уже сокрушил, впрочем не трагически, несколько девических сердец, но теперь он действительно любил, тем более что Ольга не вполне ему отвечала, любила не любила, скажет «да», назад возьмет, скажет «нет» — изводится, опять скажет «да». И долго это тянулось. Все же как будто она его воистину любила. Мне об этом, однако, больше говорила, чем ему. И он мне много о ней говорил. Всегда. Я для него был романтически верный друг. Он должен был мне исповедоваться, хотя смотрел на меня несколько сверху вниз, ибо был умнее и красивее меня и гораздо более, чем я, был отмечен чужим вниманием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
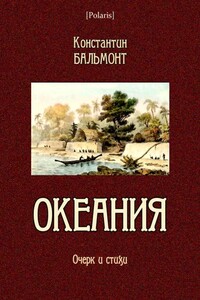
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Трактат К. Д. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (1915) – первая в русской литературе авторская поэтика: попытка описать поэтическое слово как конструирующее реальность, переопределив эстетику как науку о всеобщей чувствительности живого. Некоторые из положений трактата, такие как значение отдельных звуков, магические сюжеты в основе разных поэтических жанров, общечеловеческие истоки лиризма, нашли продолжение в других авторских поэтиках. Работа Бальмонта, отличающаяся торжественным и образным изложением, публикуется с подробнейшим комментарием.

«Единственная обязанность на земле человека — прада всего существа» — этот жизненный и творческий девиз Марины Цветаевой получает убедительное подтверждение в запечатленных мемуаристами ключевых биографических эпизодах, поступках героини книги. В скрещении разнооборазных свидетельств возникает характер значительный, духовно богатый, страстный, мятущийся, вырисовывается облик одного из крупнейших русских поэтов XX века. Среди тех, чьи воспоминания составили эту книгу, — М. Волошин и К. Бальмонт, А. Эфрон и Н. Мандельштам, С. Волконский и П. Антокольский, Н. Берберова и М. Слоним, Л. Чуковская, И. Эренбург и многие другие современники М. Цветаевой.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».
