Восстание ангелов в конце эпохи большого модерна - [9]
И все-таки — смотрю сам на себя с удивлением! — все-таки ностальгия. Ностальгия по тому состоянию человека как типа, когда все в человеческом мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить; когда возможно было «значительное». Даже ложная значительность, которой, конечно, всегда хватало — «всякий человек есть ложь», как сказал Псалмопевец (115: 2), — по-своему свидетельствовала об императиве значительности, о значительности как задании, без выполнения коего и жизнь — не в жизнь.
Не буду спорить, что бывали времена, когда этот императив доходил до неутешительных крайностей. В особенности европейская культура конца прошлого века и рубежа веков, то есть вагнеровско-ницшевско-ибсеновской эпохи, страдала болезненной гипертрофией секуляризованного в своей мотивации и перенесенного в повседневную жизнь «образованного сословия» напряженного, натужного устремления быть значительными. Это было особенно характерно для Bildungsbrgertum.
И уж вовсе на неправде основывалась устрашающая серьезность ежесекундно готовых убивать и умирать за новую жизнь и спасение человечества — ни больше ни меньше — большевиков, штурмовиков и прочая. И не от хорошей жизни являлась значительность геройского сопротивления тоталитаризму; никто из нас в здравом уме не пожелает ни себе, ни тем паче другому — положить голову на плаху, хотя жест этот, несомненно, бывал весьма значительным.
Впрочем, то же и с эстетикой. В первой половине века были «авангардисты», и нынче есть «авангардисты». Но разве вторые хоть отдаленно похожи на первых? Новшества тех имели значение патетического жеста, готового возвестить либо — «incipit vita nova», либо — конец всему, либо, может быть, — и то и другое сразу. Эсхатологическая труба архангела. Вот Малевич пишет свой черный квадрат. Это серьезно, как движение бедного маленького Ганно Будденброка, подводящего черту под своим родословием: больше ничего не будет! Нынче-то жители западных городов проходят мимо абстрактных скульптур не оборачиваясь; а то было иначе — потрясенный мир узнавал о рождении беспредметного искусства как о знамении, о предзнаменовании наподобие тех omina (скажем, рождении тельца о двух головах), о которых так любил рассказывать в своей римской истории Тит Ливий. И Бердяев именно так писал свою статью о Пикассо.
…Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось! (Тотальное и сознательное «нет» серьезности в духе «Степного волка» Гессе, «Homo ludens» Хейзинги или карнавалов Бахтина тоже ведь в своем роде серьезно, а если практикуется на обэриутский манер, так даже смертельно серьезно.) Можно бы понять чувство оскорбления после стольких идеологических обманов; известно, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни — и стала совершенно непонятной. Ее отсутствие вдруг принято всеми как сама собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем или наркотиками). Разве что в малочитаемых книжках помянут «Sinnverlust», но опять-таки как проблему скорее психическую, нежели духовную или «экзистенциальную». Проблема, конечно, не в эстетике. Проблема в том, как жить.
Взять хоть политику. Самое страшное и, во всяком случае, самое странное — даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не «значит» и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Уличные бои — да это же был когда-то один из центральных символов Европы, вспоминай хоть стихи Барбье и вдохновленную ими «Свободу на баррикадах» Делакруа, хоть смерть тургеневского Рудина. Сегодня же на улицах Ганновера с полицейскими сражаются — панки. Они могут убить сколько-то полицейских, могут играть собственными жизнями — но это не отменит глубокой фривольности ситуации. Когда нынче слышишь о «неонацистах» или о русских «красно-коричневых», охватывает странное, неловкое чувство. Не мне же, в самом деле, обижаться за «настоящих» наци или «настоящих» большевиков! И все же, и все же — там было более опасное, но морально более понятное искушение: ложная, бесовски ложная, но абсолютно всерьез заявленная претензия на значительность, которой нынче нет как нет. В том-то и ужас, что сегодня люди могут сколько угодно убивать и умирать — и, сколько бы ни было жертв, это все равно ничего не будет значить. Объективно не будет.
Ну и напророчил Мандельштам еще когда — в 1922 году!
«Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но помола нет, мельник одряхлел и устал и широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут работы».
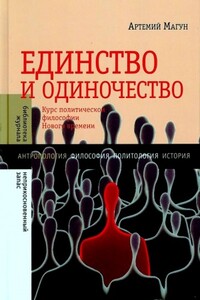
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
