Воспоминания петербургского старожила. Том 2 - [21]
– Ну, вот же видишь, – подхватил с живостью Юрьев, – уж на что ты, Синицын, кроток и добр, а ты хотел этого фанфарона наказать. После этого чего мудреного, что такой пламенный человек, как Лермонтов, не на шутку озлился, когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем нашем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне офранцужено от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которые он был поставлен, не те интриги великосветскости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений. Все это ежедневно раздражало Лермонтова, и он, всегда такой почтительный к бабушке нашей, раза два с трудом сдерживал себя, когда старушка говорила при нем, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел и, севши в них, не умел ловко управлять своенравными лошадками, мчавшими его и намчавшими, наконец, на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть. Со старушкой нашей Лермонтов, конечно, не спорил, а только кусал ногти и уезжал со двора на целые сутки. Бабушка заметила это и, не желая печалить своего Мишу, ни слова не говорила при нем о светских толках; а эти толки подействовали на Лермонтова до того сильно, что недавно он занемог даже. Бабушка испугалась, доктор признал расстройство нервов и прописал усиленную дозу валерьяны; заехал друг всего Петербурга, добрейший Николай Федорович Арендт и, не прописывая никаких лекарств, вполне успокоил нашего капризного больного своею беседой, рассказав ему всю печальную эпопею тех двух с половиною суток с 27 по 29 января, которые прострадал раненый Пушкин. Он все, все, все, что только происходило в эти дни, час в час, минута в минуту, рассказал нам, передав самые заветные слова Пушкина. Наш друг еще больше возлюбил своего кумира после этого откровенного сообщения, обильно и безыскусственно вылившегося из доброй души Николая Федоровича, не умевшего сдержать своих слов.
Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наш родня Н. А. С[толыпин], дипломат, служивший под начальством графа Нессельроде[145], один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга, но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова. Узнав от бабушки, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил наведаться об нем и вошел неожиданно в его комнату, минут десять по отъезде Николая Федоровича Арендта. По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, С[толыпин] расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться. Honneur oblige!..[146] Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и не испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее во имя любви своей к славе России и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. С[толыпин] засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но Майошка наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро по нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем С[толыпин], заметив это, сказал улыбаясь и полушепотом: «La poésie enfante!»[147]; потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: «Adieu, Michel!», но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на С[толыпина] и бросил ему: «Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда». С[толыпин] не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: «Mais il est fou à lier»[148]. Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был С[толыпин], и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами: «А вы, надменные потомки!» и в которых так много силы.
– Я отчасти знаю эти стихи, – сказал Синицын, – но не имею верной копии с них. Пожалуйста, Юрьев, ты, который так мастерски читаешь всякие стихи, прочти нам эти «с чувством, с толком, с расстановкой», главное, «с расстановкой», а мы с В[ладимиром] П[етровичем] их спишем под твой диктант.
– Изволь, – отозвался Юрьев, – вот они.
Мы тотчас вооружились листами бумаги и перьями, а Юрьев декламировал, повторяя каждый стих:

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.
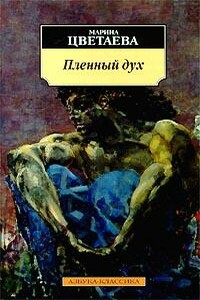
Проза поэта о поэтах... Двойная субъективность, дающая тем не менее максимальное приближение к истинному положению вещей.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
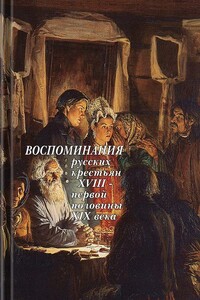
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.