Воспоминания о Марине Цветаевой - [154]
Когда пошли обратно, Марина заговорила и долго, очень спокойно говорила о будущем, о своих планах на это будущее. Мечтала жить в маленьком городе, поближе к морю. «Как вы думаете, Симферополь хороший город? — спросила она. — А может быть, Феодосия лучше?»
Я сказала, что не была ни там, ни тут, что в Феодосии была только два часа, проездом, когда ездила с Михаилом Кольцовым и бригадой «Правды», проверяла работу транспорта, — но что заочно люблю эти южные города.
Она мечтала о том, как они «с Сереженькой» поселятся в таком городе, как будут работать; и насколько ей больше нравятся маленькие города у моря. «Знаете, Нина, мне даже не страшно, что Сереженька не сможет жить после освобождения в Москве. Але и Муру, может быть, и нужна Москва, а нам нет, нам лучше будет там…»
Расстались мы уже поздно вечером. Она меня крепко обняла на прощанье и сказала, что она давно так чудесно, так покойно не проводила время. Что она даже очень рада, что мы не попали в музей, так ей понравилась прогулка.
Помню, как я пришла в начале зимы 41-го года к Марине вечером домой на Покровский бульвар. Большой домина, двор — колодец. Жила она то ли на шестом, то ли на седьмом этаже. Небольшая двух- или трехкомнатная квартира у Марины Ивановны вместе с Муром комнатка метров 12–13. Я эту комнату помню отлично: одно окно, вдоль окна вплотную простой продолговатый деревянный стол. Рядом с ним впритык кровать Марины, вернее, не кровать, а топчан с матрацем, или же два составленные рядом кофра, на них — матрац, а сверху плед. Во всяком случае, жесткое и неуютное ложе. Я сидела на нем и чувствовала, как жестко. Комната неприбранная, масса наброшенных вещей: через всю комнату и над столом — веревки с висящим на них тряпками из мохнатых полотенец и просто полотенца. На столе в беспорядке еда и посуда — чистая и грязная, книги, карандаши, бумага — как бывает на столах, за которыми и едят и работают. Под потолком — тусклая, желтоватая, неуютная лампочка без абажура. С другой стороны стола кровать Мура. Один или два стула, чемоданы. Что-то шкафа я не припомню, может быть, был в стене, но помню хорошо, что на стене, около топчана Марины — под простыней — платья и пальто; также и на другой стене около кровати Мура.
Марина Ивановна пожаловалась на соседей — был конфликт из-за брюк Мура. «Поймите, Нина, они не дают мне вешать выстиранные брюки Мура над плитой. Пойдемте, я вам покажу, как они висят».
Кухня большая, светлая, пустая, чистая, деревянные полы. Над газовой плитой протянута веревка — и на ней мокрые синие, из «чертовой» материи брюки Мура. Обе штанины низко свисают над плитой, и с них капает прямо на кастрюли. Соседей никого не было.
Я робко заметила Марине, почему бы ей, чтобы не нервничать и не ссориться с жильцами, не повесить эти штаны к другой стене, где высоко под потолком были протянуты веревки и где брюки явно никому бы не помешали и не капало бы с них на еду. Ведь плита всем нужна! «Да, конечно, — ответила Марина, — плита всем нужна, но ведь брюки над плитой высохнут быстрее. Я их никуда не буду перевешивать».
Мы вернулись в комнату, уселись вместе на ее кровать, и она предложила мне почитать вслух свои переводы стихов (она тогда переводила кого-то из поэтов Союзных республику). Сначала она прочитала мне подстрочник, а потом свои переводы. Тут я, кажется, впервые воочию до конца поняла, ощутила сердцем, какой передо мной сидит талант. После абракадабры-подстрочника я услышала музыку в стихах. Я просто сидела ошарашенная, и Марина видела это. Я чувствовала, как она рада, как осветилось, смягчилось ее лицо. Думаю, она была еще рада и тому, что ее слушал близкий живой человек, близкий в ее страшном одиночестве.
А она была очень одинока. Одну фразу ее я запомнила на всю жизнь: «Нина, милая, я не чувствую себя одинокой только в бомбоубежище». Без боли я не могла тогда слушать эту фразу и без боли не могу ее вспоминать и сейчас. Чем я могла тогда подбодрить ее, что могла сказать ей, чем помочь, когда она все понимала. Понимала и молчала. Я не помню, чтобы она когда-нибудь жаловалась на все, что произошло; она даже редко говорила о тебе и папе — это была ее боль, ее горе, ее страдания. Ее, и только ее, и она не хотела ни с кем делиться ими, даже со мной и Мулей. Но мне кажется, мысли ее всегда были с вами. Она часто задумывалась. Глаза ее были большей частью строгие, вдумчивые. Но никогда, ни разу за все мое знакомство с ней, после всех несчастий, посыпавшихся на ее голову, и после твоего ареста, и после ареста Сергея Яковлевича, я не видела ее плачущей, несчастной. Холодная, спокойная и гордая. Бесконечное чувство уважения испытываю я к ней за ее железную выдержку, за ее гордость.
Она понимала, что многие боятся общаться с ней, что она окружена пустотой. А тех людей, которые льнули к ней, но которых она мало знала, она боялась сама. Помню такого Семенова — не могу вспомнить, как его звали, то ли Святополк, то ли Ярополк. Он работал в нашей Сценарной студии редактором и, узнав, что я знакома с Мариной Ивановной, чуть не сошел с ума от радости. У него в рукописях были, по-моему, чуть ли не все стихи Марины; всеми правдами и неправдами он доставал все, что было издано у нас до революции, все, что было издано за границей, — и переписывал для себя. Творчество ее он знал и любил. Помню он как-то вечером, после работы, затащил меня в свой студийный кабинетик и читал мне пьесу Марины «Конец Казановы». Я этой пьесы не знала и сидела оглушенная и потрясенная. Отдать справедливость — и прочел он блестяще.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
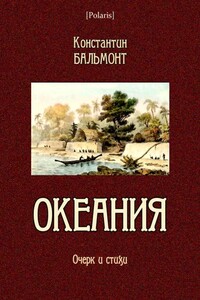
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».
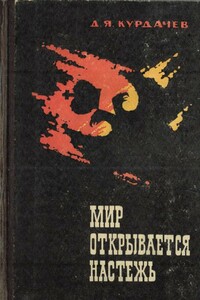
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
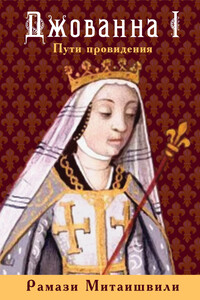
Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
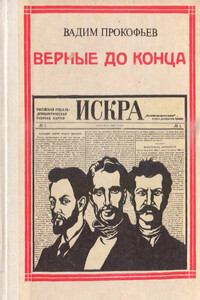
В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
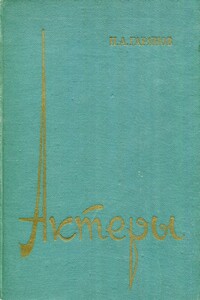
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.
