Воспоминания о будущем - [23]
Я не буду останавливаться на том, как строилась сперва в моей голове, годы вслед годам, моя конструкция; бесполезно описывать и то, как я ее вынул вот отсюда, из-под лба, и взял ее в пальцы. Конечно, это было нелегко, она противилась овеществлению, была долгая борьба, и я не в силах вложить в десяток минут то, что раздлиннилось на два десятка лет. Для этого мне пришлось бы прибегнуть к моей машине, но она разбилась о… но об этом после. На море длительностей тоже возможны кораблекрушения. Но рано или поздно я попытаюсь еще раз бросить «поздно» в «рано» и «рано» в «поздно».
На минуту слова оборвались. Беллетрист, шевельнув гетрами, наклонился к соседу:
– Не правда ли, лобная кость его, как заслонка фонаря: приподнять – и глазам будет больно?
Сосед хотел ответить, но Штерер покончил с паузой:
– Лобачевский впервые отметил, что линия АВ есть в то же время и ВА, то есть представляет собой геометрический луч, который может быть проведен как от А к В, так и от В к А. Следовательно, через две точки можно провести не только одну прямую и, следовательно… Но пора следовать во времени, как это обещал вам Стынский.
Я дал себе старт в одну из летних ночей. Окно моей комнаты было открыто, как вот это, у которого я сейчас: оно должно было превратиться для меня в окно вагона, мчащегося из эпох в эпохи. Я не мог выбирать, но уже до пуска машины понимал всю неблагоприятность одной из пространственных координат. Горизонт был почти отрублен стеной брандмауэра, только за левым остекленным отворотом рамы можно было видеть короткий отрезок улицы и грязный фасад, истыканный тремя рядами дыр, а из-за них несколько кровель – и всё. Я не случайно отправлялся, так сказать, с ночным поездом: темнота и сны защищали старт от возможности подгляда и вмешательства непрошеных ушей в те звуковые феномены, которые легко могли возникнуть при переключении из воздуха в эфир. Из предосторожности я погасил даже электричество и пользовался при посадке простой свечой, которую можно было потушить толчком дыхания, в то время как выключатель был отделен от машины шестью-семью шагами.
Я был законтрактован, я продал, не стану скрывать от вас, несколько маршрутов в прошлое. Надо было сделать небольшой прыжок на пять-шесть лет вспять, проверить ход времяреза и точность регулирующих механизмов и снова «подать» конструкцию к той же дате. К утру я думал обернуться. Но в последний момент перед включением в аппарат я заколебался. Материалы, из которых строился времярез, были далеко не высшего качества, где у нас их было достать? Бросить свою непроверенную формулу сразу же в прошлое, то есть против течения времени, против ветра секунд – это могло привести к ее повреждению, а то и… я хотел быть честным по отношению к людям, но я не хотел быть нечестным по отношению к машине. После короткого колебания я переобратил имдикцию с осолони на посолонь и замкнул цепь. Надо вам знать, что существеннейшая часть моего аппарата – под цвет воздуху свитая из паутинно-тонких спиралей воронка. Стоит только втиснуть голову в эту шапкообразную – выходным отверстием кверху – воронку, свои виски и дать контакты и… Мозг наш, как известно, капельно-жидок, и воронка моя, переливающая его, точнее – растворенное в нем мышление из пространства во время… это не так легко было сделать: ведь комплекс ощущений запрятан под три мозговых оболочки плюс костяной футляр – надо было в чистое t сорвать все это опеленывающее и поднять лобную кость как заслонку простого фонаря и дать выход свету. (Гетры теснее прижались одна к другой.) Я включил электронный вихорь – и время стало втягивать меня сначала за мозг; мозг, вывинчиваясь сквозь спироворонку, тянул на нервных нитях тело; мучительно вдавливаясь и плющась, оно не хотело пройти сквозь: казалось, еще немного, и натянутые нервные волокна оборвутся, уронив подвешенный к мозгу балласт; я не выпускал из струящихся моих пальцев контактов и регуляторов; миг – и я увидел себя… то есть именно я не увидел себя. За квадратом окна происходило нечто фантасмагоричное: как если б гигантская светильня, догорая, то вспыхивала, то затухала, бросая окно то в свет, то в тьму. По сю сторону окна тоже что-то происходило: что-то маячило вертикальным, то придвигающимся, то отодвигающимся в рост мне контуром и сыпало прерывистой дробью шагов.
Очевидно, я сразу рванул на предельную скорость, вокруг меня беззвучно вибрировала конструкция; в левой руке оневидеменный временем, вынесенный на полный поворот вперед, вздрагивал рычаг. Я потянул его на себя, и картина за стеклом стала четче: слепящее глаза мелькание осолнцелось – я видел его, солнце, – оно взлетало желтой ракетой из-за сбившихся в кучу крыш и по сверкающей выгиби падало, блеснув алым взрывом заката, за брандмауэр. И прежде чем отблеск его на сетчатке, охваченной ночью, успевал раствориться, оно снова из-за тех же крыш той же желтой солнцевой ракетой взвивалось в зенит, чтобы снова и снова, чиркая фосфорно-желтой головой о тьму, вспыхивать новыми и новыми, краткими, как горение спички, днями. И тотчас же в машине моей появился колющий воздух цокающий звук. Конечно, я сделал ошибку, дав сразу же полный ход. Надо быть начеку: я отвел рычаг еще немного назад – солнце тотчас же замедлило свой лёт; теперь оно было похоже на теннисный шар, который восток и запад, разыгрывая свои геймы, перешвыривают через мой брандмауэр, как через сетку. Занятый этим странным зрелищем, я позабыл о внутрикомнатном. Когда ход времяреза выровнялся, я оглянулся наконец и на шаговую раздробь у половиц. Это было смешное и чуть жалостливое зрелище. Хотя дверь моей комнаты была обыкновенной глухой и одностворчатой дверью, но сейчас она производила впечатление вращающейся двери сутолочного щелевого подъезда, по крайней мере, человек, или люди, или нет, человек с портфелем под локтем, никак не мог выпутаться из ее движущейся створы – он проваливался наружу и тотчас же, будто забыв что-то, возвращался внутрь, срывал с себя все, нырял под одеяло и, снова вспомнив, впрыгивал в одежду и исчезал за дверью, чтобы тотчас же появиться вновь. И все это под вспыхивающими вперебой солнцем и электрической нитью. Эта чехарда дат казалась мне, повторяю, по непривычке чуть забавной, самое ощущение бешеного темпа моей машины ширило мне сердце, я снова чуть толкнул рычаг скоростей вперед – и тут произошло нежданное: солнце, взлетевшее было, точно под ударом упругой ракеты, из-за крыш, внезапно метнулось назад (запад отдавал шар), и все, точно натолкнувшись на какую-то стену, там, за горизонтом, остановилось и обездвижилось; лента секунд, продергивающаяся сквозь мою машину, застопорилась на каком-то миге, какой-то дробной доли секунды – и ни в будущее, ни в прошлое. Там, где-то под горизонтом, орбита солнца пересеклась с вечностью. Брр, препоганое слово «вечность», для того, кто ее видел не в книгах, а в… Воздух был пепельно-сер, как бывает перед рассветом. Контуры крыши, косая проступь улицы были врезаны в бездвижье, как в гравюрную доску. Машина молчала. Нерассветающее предутрие, застрявшее меж дня и ночи, не покидало мертвой точки. Только теперь я мог рассмотреть все мельчайшие детали жалкого городского пейзажа, притиснувшегося к пыльному окну: на стене вгравированного дома над каменной рябью булыжника выставлялся конец синей, в золотом обводе вывески; по сини белым: «…АЯ», остальное было отрезано выступом соседнего дома; каверна подворотни, прячущая под своей навесью черную, бездвижным контуром в тротуар выставившуюся тень; над каверной – из железного зажима красный флаг, застывший в воздухе ветер задрал ему кумачовый подол, и материя, будто вырисованная в воздух гальванопластическим средством, застыла над улицей; у тумбы задняя нога пса, приподнятая кверху – спазм вечности остановил ее. Исчерпав улицу, я перевел внимание на внутренность комнаты. То, что я увидел, заставило меня… нет, неправда, на то, чтобы вздрогнуть, нужно хоть одну десятую секунды, время же, окаменев, отняло все, до мельчайшей доли мельчайшего мига. Итак, прямо против меня на кровати, упершись ладонями в тюфяк и выставившись навстречу моему взгляду круглыми, распяленными страхом глазами, сидел человек.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
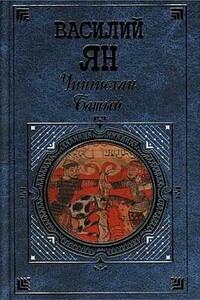
Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.
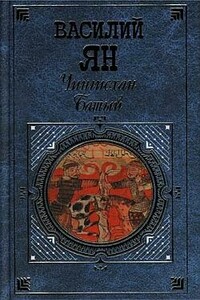
Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.
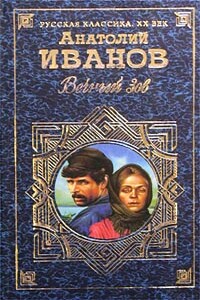
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
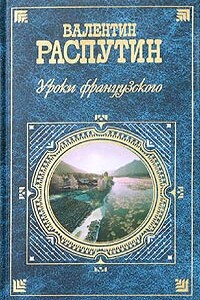
В повести лаурета Государственной премии за 1977 г., В.Г.Распутина «Живи и помни» показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть повести писатель В.Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть, и для тебя».