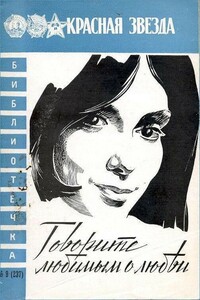Воскрешение лиственницы - [34]
Пятьдесят восемь, один, — а! — не принимают. КРТД — ни в коем случае. Это хуже всякой измены родине.
А КРА? КРА — это все равно что пятьдесят восемь, пункт десять. КРА принимают.
А АСА? У кого АСА? «У меня», — сказал человек с бледным и грязным тюремным лицом — тот, с которым мы тряслись вместе в одной машине.
АСА — это все равно что КРА. А КРД? КРД — это, конечно, не КРТД, но и не КРА. На курсы КРД не принимают.
Лучше всего чистая пятьдесят восьмая, пункт десять без всяких там литерных замен.
Пятьдесят восемь — пункт семь — вредительство. Не принимают. Пятьдесят восемь — восемь. Террор. Не принимают.
У меня — пятьдесят восемь. Десятый пункт. Я остаюсь в бараке.
Приемная комиссия фельдшерских курсов при Центральной лагерной больнице допустила меня к испытаниям. Испытания? Да, экзамены. Приемный экзамен. А что вы думали. Курсы — серьезное учреждение, выдающее документы. Курсы должны знать, с кем имеют дело.
Но не пугайтесь. По каждому предмету — русский язык — письменный, математика — письменный и химия — устный экзамен. Три предмета — три зачета. Со всеми будущими курсантами — больничные врачи, преподаватели курсов, проведут беседы до экзамена. Диктант. Девять лет не разгибалась моя кисть, согнутая навечно по мерке черенка лопаты — и разгибающаяся только с хрустом, только с болью, только в бане, распаренная в теплой воде.
Я разогнул пальцы левой ладонью, вставил ручку, обмакнул перо в чернильницу-непроливайку и дрожащею рукой, холодея от пота, написал этот проклятый диктант. Боже мой!
В двадцать шестом году — двадцать лет назад — последний раз держал я экзамен по русскому языку, поступая в Московский университет. На «вольной» теме я «выдал» двести процентов — был освобожден от устных испытаний. Здесь не было устных испытаний. Тем более! Тем более — внимание: Тургенев или Бабаевский? Это мне было решительно все равно. Нетрудный текст… Проверил запятые, точки. После слова «мастодонт» точка с запятой. Очевидно, Тургенев. У Бабаевского не может быть никаких мастодонтов. Да и точек с запятой тоже.
«Я хотел дать текст Достоевского или Толстого, да испугался, что обвинят в контрреволюционной пропаганде», — рассказывал после мне экзаменатор, фельдшер Борский. Проводить испытания по русскому языку отказались дружно все профессора, все преподаватели, не надеясь на свои знания. Назавтра ответ. Пятерка. Единственная пятерка: итоги диктанта — плачевны.
Собеседования по математике испугали меня. Задачки, которые надо было решить, решались как озарение, наитие, вызывая страшную головную боль. И все же решались.
Эти предварительные собеседования, испугав меня сначала, успокоили. И я жадно ждал последнего экзамена, вернее, последней беседы — по химии. Я не знал химии, но думал, что товарищи расскажут. Но никто не занимался друг с другом, каждый вспоминал свое. Помогать другим в лагере не принято, и я не обижался, а просто ждал судьбы, рассчитывал на беседу с преподавателем. Химию на курсах читал академик Украинской академии наук Бойченко — срок двадцать пять и пять, — Бойченко принимал и экзамены.
В конце дня, когда было объявлено об экзаменах по химии, нам сказали, что никаких предварительных бесед Бойченко вести не будет. Не считает нужным. Разберется на экзамене.
Для меня это было катастрофой. Я никогда не учил химию. В средней школе в гражданскую войну наш преподаватель химии Соколов был расстрелян. Я долго лежал в эту зимнюю ночь в курсантском бараке, вспоминая Вологду гражданской войны. Сверху меня лежал Суворов — приехавший на экзамен из такого же дальнего горного управления, как и я, и страдавший недержанием мочи. Мне было лень ругаться. Я боялся, что он предложит переменяться местами — и тогда он жаловался бы на своего верхнего соседа. Я просто отвернул лицо от этих зловонных капель.
Я родился и провел детство в Вологде. Этот северный город — необыкновенный город. Здесь в течение столетий отслаивалась царская ссылка — протестанты, бунтари, критики разные в течение многих поколений создали здесь особый нравственный климат — выше уровнем любого города России. Здесь моральные требования, культурные требования были гораздо выше. Молодежь здесь раньше рвалась к живым примерам жертвенности, самоотдачи.
И всегда я с удивлением думал о том, что Вологда — единственный город в России, где не было никогда ни одного мятежа против советской власти. Такие мятежи потрясали весь Север: Мурманск, Архангельск, Ярославль, Котлас. Северные окраины горели мятежами — вплоть до Чукотки, до Олы, не говоря уж о юге, где каждый город испытывал не однажды смену властей.
И только Вологда, снежная Вологда, ссыльная Вологда — молчала. Я знал почему… Этому было объяснение.
В 1918 году в Вологду приехал начальник Северного фронта М. С. Кедров. Первым его распоряжением по укреплению фронта и тыла был расстрел заложников. Двести человек было расстреляно в Вологде, городе, где население шестнадцать тысяч человек. Котлас, Архангельск — все счет особый.
Кедров был тот самый Шигалев, предсказанный Достоевским.
Акция была настолько необычайной даже по тем кровавым временам, что от Кедрова потребовали объяснений в Москве. Кедров не моргнул глазом. Он выложил на стол ни много ни мало, как личную записку Ленина. Она была опубликована в Военном историческом журнале в начале шестидесятых годов, а может быть, чуть раньше. Вот ее приблизительный текст. «Дорогой Михаил Степанович. Вы назначаетесь на важный для республики пост. Прошу вас не проявить слабости. Ленин».

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.
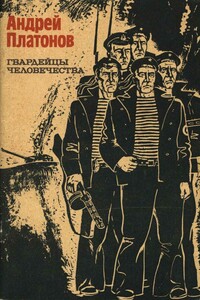
Цикл военных рассказов известного советского писателя Андрея Платонова (1899–1951) посвящен подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Советские специалисты приехали в Бирму для того, чтобы научить местных жителей работать на современной технике. Один из приезжих — Владимир — обучает двух учеников (Аунга Тина и Маунга Джо) трудиться на экскаваторе. Рассказ опубликован в журнале «Вокруг света», № 4 за 1961 год.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.
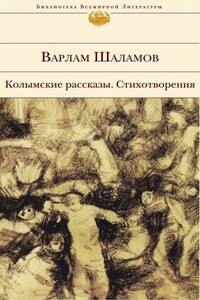
Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.В состав книги вошли «Колымские рассказы», принесшие писателю мировую известность, а также «Колымские тетради», составляющие его поэтическое наследие.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.

Первое в России полное издание автобиографической повести выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982). «Четвертая Вологда» раскрывает истоки духовного становления автора знаменитых «Колымских рассказов», содержит глубокие раздумья о крестном пути России. В книгу включены так же рассказы и стихи В. Т Шаламова, связанные с Вологдой. Книга иллюстрирована редкими фотографиями.
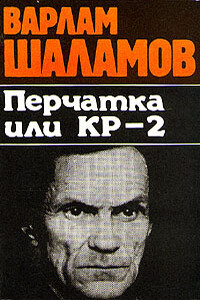
Имя писателя Варлама Шаламова прочно вошло в историю советской литературы. Прозаик, поэт, публицист, критик, автор пронзительных исповедей о северных лагерях — Вишере и Колыме. В книгу вошли не издававшиеся ранее колымские рассказы «Перчатка или КР-2».