Вопросы жизни Дневник старого врача - [204]
В Ревеле же, наконец, возобновил я старое знакомство с моим товарищем по Берлину и вместе с ним завел новое с лицом не менее интересным, как и мой старый товарищ, но крайне подозрительным.
Как — то нечаянно я встречаю в морских купаниях знакомое лицо; всматриваюсь и узнаю, что это Н[иколай] Ив[анович] Крылов, профессор римского права в Московском университете.
— Ба, ба, ба! Ты зачем здесь очутился? — спрашиваю я его.
— Да, вот, проездом из Петербурга, хочу попробовать выкупаться в море. Я чай, вода — то тут у вас холодная, прехолодная? А? (Эта частица «а» прибавлялась Крыловым к каждому периоду).
— А, вот, рекомендую моего друга, главного врача при морских купальнях и ваннах, доктора Эренбуша. Познакомьтесь, господа: мой старый товарищ — профессор Крылов.
— Очень рады.
— Ну что, Эренбуш, сегодня вода в море, — спросил я, подмигнув Эренбушу, — холодна?
— О, нет! — отвечает Эренбуш, — очень приятная, в самую пору. Мы раздеваемся и идем купаться. Первый входит в воду Крылов;
но как только окунулся, так сейчас же благим матом назад; трясясь, как осиновый лист, посинев, Крылов бежит из воды, крича дрожащим голосом:
— Подлецы — немцы!
Мы хохотали до упаду при этой сцене. Это было так по — русски, и именно по — московски: «немцы — подлецы — зачем вода холодна!» — немцы — подлецы, жиды — подлецы, все — подлецы, потому что я глуп, потому что я неосторожен и легковерен.
Потеха продолжалась целый день потом.
С Крыловым нельзя было не смеяться. Он стал рассказывать нам свое похождение с генералом Дубельтом1. Крылов был цензором, и пришлось им в этот год цензировать какой — то роман, наделавший много шума. Роман был запрещен главным управлением цензуры, а Крылов вызван к петербургскому шефу жандармов Орлову. Вот об этом — то деле и надо было подсунуть представление. Крылов приезжает в Петербург, разумеется, в самом мрачном настроении духа и является прежде всего к Дубельту, а затем вместе с Дубельтом отправляются к Орлову. Время было сырое, холодное, мрачное.
— Проезжая по Исаакиевской площади, мимо монумента Петра Великого, Дубельт, закутанный в шинель и прижавшись к углу коляски, как будто про себя, — так рассказывал Крылов, — говорит: «Вот бы
кого надо было высечь, это Петра Великого, за его глупую выходку: Петербург построить на болоте».
Крылов слушает и думает про себя: «Понимаю, понимаю, любезный, не надуешь нашего брата, ничего не отвечу».
И еще не раз пробовал Дубельт по дороге возобновить разговор, но Крылов оставался нем, яко рыба. Приезжают, наконец, к Орлову. Прием очень любезный.
Дубельт, повертевшись несколько, оставляет Крылова с глазу на глаз с Орловым.
— Извините, г. Крылов, — говорит шеф жандармов, — что мы вас побеспокоили почти понапрасну. Садитесь, сделайте одолжение, поговорим.
— А я, — повествовал нам Крылов, — стою ни жив, ни мертв, и думаю себе, что тут делать: не сесть — нельзя, коли приглашает; а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, еще и высечен будешь. Наконец, делать нечего, Орлов снова приглашает и указывает на стоящее возле него кресло. Вот я, — рассказывал Крылов, — потихоньку и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа ушла в пятки. Вот, вот, так и жду, что у меня под сиденьем подушка опустится и — известно что.1 И Орлов, верно, заметил, слегка улыбается и уверяет, что я могу быть совершенно спокоен, что в цензурном промахе виноват не я. Что уж он мне там говорил, я от страха и трепета забыл. Слава Богу, однако же, дело тем и кончилось. Черт с ним, с цензорством! — это не жизнь, а ад.
В этот же день познакомил нас мой приятель Эренбуш и еще с двумя личностями, оставшимися у меня в памяти. Почему?
Одна из этих личностей, германского происхождения, обязана горошине тем, что я ее еще помню, хотя другие, более меня интересующиеся классицизмом и царедворством, вспоминают о профессоре д — ре Гримме по его, некогда весьма известной у нас, учебно — придворной деятельности. Гримм был учителем вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича, а потом и наследника вел[икого] кн[язя] Николая Александровича; этот знаток древних языков и биограф покойной императрицы Александры Феодоровны, глухой на одно ухо от роду (как он сам полагал), приехав с государынею в Ревель, обратился к доктору Эрен — бушу, боясь, чтобы не оглохнуть на другое ухо.
Но как же и Гримм, и все мы были удивлены, когда после нескольких спринцовок теплою водою из глухого от роду уха выскочила горошина! А с появлением горошины на свет Гримм тотчас же вспомнил, как он, еще неразумный ребенок, играя в горох, засадил себе одну горошину в ухо.
Другая личность, также более или менее патологическая, только в другом роде, был граф Гуровский2, присланный тогда в Ревель из С. — Петербурга по распоряжению шефа жандармов, чего мы, однако же, тогда
еще не знали. Гуровский с жадностью, можно сказать, принял знакомство с нами и, частью на французском, частью на ломаном русском языке, затянул с нами нескончаемую канитель о могуществе России, ее богатствах, открытых соплеменником Гуровского, Тенгоборским1 и т. п.
При этом он утверждал, что правительство наше не должно допускать слишком интимного сближения русской молодежи с польскою. Были случаи, впоследствии напомнившие мне это правило Гуровского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Этого врача по праву называют отцом русской хирургии. В 18 лет он окончил Московский университет, а в 26 стал профессором. Ученый-анатом, естествоиспытатель и военный хирург, он побывал на Крымской и Кавказской войнах, спас тысячи жизней, впервые применил эфирное обезболивание и гипсовую повязку. В книгу вошли письма и дневниковые записи, посвященные описанию трудовых будней первого русского хирурга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
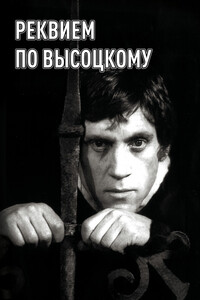
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.