Воплощение и Искупление - [5]
(Мк. 8:31; Мф. 16:21; Лк. 9:22; ср. 24:26).
«Надлежит» не только по законам человеческой ненависти и злобы. Смерть Господа вполне свободна. Никто не отнимает жизни у Него. Он сам полагает душу Свою, по Своей воле и власти (Ин. 10:18). По катехизическому определению, Он страдал и умер «не потому, что не мог избежать страдания, но потому что восхотел пострадать.» Восхотел не только в смысле добровольного долготерпения, не в том только смысле, что попустил совершиться на Собою беснованию неправды. Не только попустил, но изволил… Умереть «надлежало» по закону Божию, по закону правды и любви. Это не необходимость греховного мира, это — необходимость Божественной любви. Таинство крестное начинается в вечности — «в недоступном для твари святилище триипостасного Божества.» Потому и говорится о Христе как об Агнце, «предопределенном прежде основания мира» (1 Пет. 1:19) и даже «закланном от сложения мира» (Откр. 13:8). Как говорил Филарет Московский: «Крест Иисусов, сложенный из вражды иудеев и буйства язычников, есть уже земной образ и тень сего небесного Креста любви»[26]. В эту Божественную необходимость крестной смерти с трудом проникает человеческая мысль.
О Крестной тайне Церковь свидетельствует не в однозначных догматических формулах. И до сих пор она повторяет богодухновенные слова Нового Завета, слова апостольской проповеди, говорит в образах и описательно. Это потому, что трудно найти слова и словесные формулы, которыми можно было бы точно и исчерпывающе выразить «великую тайну благочестия.» И прежде всего нельзя полностью раскрыть смысл Крестного таинства в одних только этических категориях. Моральные и тем более правовые понятия остаются здесь всегда только бледными антропоморфизмами. Это относится и к понятию жертвы. Жертву Христову нельзя понимать только как пожертвование… Это не объяснит необходимости смерти, ибо вся жизнь Богочеловека была непрерывной жертвой. Почему же недостаточно пречистой Жизни для победы над смертью, и смерть побеждается только через смерть? Кроме того, есть ли смерть для праведного Богочеловека жертва в смысле отказа от блага жизни — особенно в предвидении воскресения в третий день? Смысл крестной смерти не открывает до конца и идея Божественной справедливости, justicia vindicativa.
В понятиях счета и уравнения, возмездия и удовлетворения нельзя исчерпать тайну Крестного отречения и любви. Если ипостасным соединением с Божеством бесконечно усилена значимость смерти Христовой, разве не в той же мере умножены в силе и вся Его жизнь, и все Его дела — дела не только как Праведника, но и как Богочеловека? Разве Его дела не покрывают с избытком как лукавое неделание, так и все грешные деяния падшего человечества? Наконец, в страстях и Крестной смерти нет той справедливой необходимости, определяемой Законом, которая была бы в каждой смерти праведника. Ибо это не страдания и смерть человека, силою внешней помощи усовершившегося в терпении и послушании и тем стяжавшего от Бога большую благодать. Это — страдания Богочеловека, страдания непорочного человеческого естества, уже «обоженного» восприятием в ипостась Слова.
Не объясняет этого и идея «заместительного» удовлетворения, satisfactio vicaria западной схоластики. Не потому, что невозможно «замещение.» Но потому, что Бог не ищет страдания твари, а скорее скорбит о них. Как может карательная смерть пречистого Богочеловека быть упразднением греха, если смерть вообще есть возмездие за грех, и смерть властвует только в греховном мире. Разве «справедливость» стесняет милосердие и любовь так, чтобы нужна была Крестная смерть для освобождения милующей любви Божией от запретов уравнительного правосудия… Все эти сомнения с дерзновением и силою выразил уже святитель Григорий Богослов в своем знаменитом Пасхальном слове (которое, кстати сказать, по Типикону положено в качестве первого «уставного чтения» за Пасхальной Заутреней, на третьей песне):
«Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь — кровь великая и преславная, кровь Бога, и Архиерея, и Жертвы… Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение… Если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, — спрашиваю: кому и по какой причине принесена такая цена… Если лукавому, то как сие оскорбительно… Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога — за свое мучительство получает такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас… Если же Отцу, то, во-первых, — каким образом? Не у Него мы были в плену… И во-вторых, по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, Который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, давши овна вместо жертвы, одаренной словом.»
Своими вопросами святитель Григорий хочет показать необъяснимость Крестной смерти в плане уравнительной справедливости. Он не оставляет вопроса без ответа и заключает: «Из сего видно, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога»
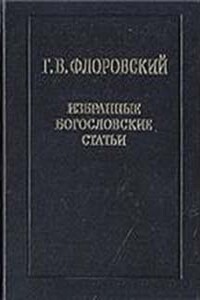
Собрание статей одного из самых выдающихся православных мыслителей XX века. Статьи самого разного характера: экуменизм и евразийство, Достоевский и славянофилы, Пятый Эфесский собор и старец Силуан, социальная проблематика, цивилизация и христианство, Евхаристия и София, Премудрость Божия. В сборнике представлены следующие статьи Г.В. Флоровского: ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ШКОЛЫЗАПАДНЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИО НАРОДАХ HE–ИСТОРИЧЕСКИХПОСЛУШАНИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИСТАРЕЦ СИЛУАН (1866–1938)ТОМЛЕНИЕ ДУХАПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИСТОРИКАЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ И ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ«ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СТРАДАНИЕ»ВЕК ПАТРИСТИКИ И ЭСХАТОЛОГИЯВЕТХИЙ ЗАВЕТ И ОТЦЫ ЦЕРКВИВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИВселенское Предание и славянская идеяЕвразийский соблазнЕВХАРИСТИЯ И СОБОРНОСТЬЖИЛ ЛИ ХРИСТОС?К ИСТОРИИ ЭФЕССКОГО СОБОРАО ГРАНИЦАХ ЦЕРКВИО ПОЧИТАНИИ СОФИИ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ, В ВИЗАНТИИ И НА РУСИПРИСНОДЕВА БОГОРОДИЦАПРОБЛЕМАТИКА ХРИСТИАНСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ ДОСТОЕВСКОГОХРИСТИАНСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯО СМЕРТИ КРЕСТНОЙХРИСТОС И ЕГО ЦЕРКОВЬ.
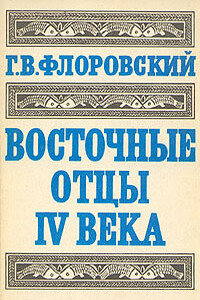
Протоиерей Георгий Флоровский (1893-1979) — русский православный богослов, философ и историк, автор трудов по патристике, богословию, истории русского религиозного сознания. Его книги — итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. В книге «Восточные отцы IV века» автор с исчерпывающей глубиной исследует нравственные начала веры, ярко выраженные в судьбах великих учителей и отцов Церкви IV века — свтт. Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста и др.Текст приводится по изданию: Г.В.
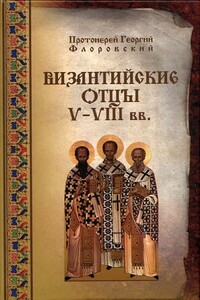
Протоиерей Георгий Флоренский (3893—1979) — русский православный богослов, философ и историк, автор трудов по патристике, богословию, истории русского религиозного сознания. Его книги «Восточные отцы IV века», «Византийские отцы V—VIII веков» и «Пути русского богословия» — итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. В книге «Византийские отцы V—VIII веков» автор с исчерпывающей глубиной исследует нравственные начала веры, ярко выраженные в судьбах великих учителей и отцов Церкви V—VIII веков.Текст приводится по изданию: Г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
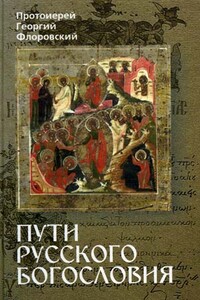
Георгий Васильевич ФЛОРОВСКИЙ (1893 - 1979) - русский богослов, историк культуры, философ. Автор трудов по патристике, византийскому богословию IV - VIII веков, истории русского религиозного сознания. Его книги "Восточные отцы четвертого века", "Византийские отцы" и "Пути русского богословия" - итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. "Пути русского богословия" - это монументальный труд, который может служить основным библиографическим справочником по истории духовной культуры в России.Издание второе, исправленное и дополненное, 2003 годИнтернет-версия под общей редакциейЕго Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.

"Физическая смерть человека — не отдельное «природное явление», а, скорее, зловещее клеймо изначальной трагедии. «Бессмертие» бестелесных «душ» не решает человеческую проблему. А «бессмертие» в мире, лишенном Бога, «бессмертие» без Бога или «вне Бога» тотчас превращается в вечную муку.".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
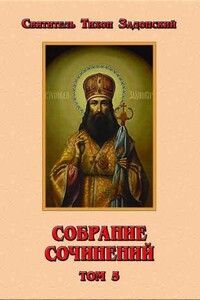
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
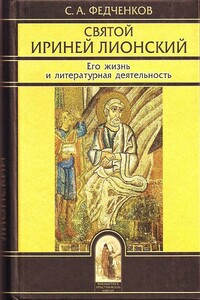
Данное обстоятельнейшее исследование о жизни, пастырских трудах и сочинениях св. Иринея Лионского (ок. 130-202) не имеет аналогов в русской церковно-исторической науке. В книге рассмотрены и самым тщательным образом разобраны практически все вопросы, касающиеся как подробностей жизни великого отца Церкви (происхождение, ранние годы, знакомство со св. Поликарпом Смирнским и «пресвитерами», поездки в Рим и епископство в Галлии, борьба с гностицизмом, монта-низмом и другими лжеучениями, участие в пасхальных спорах и многое другое), так и его плодотворной литературной деятельности, особенно по созданию главных произведений св.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга проф. С. И. Смирнова (1870–1916) посвящена истории развития института духовничества в Древней Церкви (рассматривается период Вселенских Соборов). Старчество в древних восточных монастырях и его организация, особенности совершения исповеди и покаяния в миру и монастыре — эти вопросы получают всестороннее освещение в широком контексте истории древнего монашества. Несмотря на то, что книга вышла отдельным изданием еще в 1906 году, она не утратила своего значения и поныне.