Воображение - [6]
Но если это так, нас ожидают те же самые трудности, что и в предыдущей главе.
Трудности прежде всего феноменологического плана: если редукция произведена, то весьма затруднительно через интенциональность различать образ и перцепцию, поскольку материя их одна и та же. Заключив мир «в скобки», феноменология на самом деле его не потеряла. В данном случае по-иному проходит лишь линия разграничения, и мы выделяем с одной стороны, совокупность реальных элементов сознательного синтеза (hyle и различные интенциональные акты, оживляющие ее), а с другой — обитающий в сознании «смысл». Конкретная психическая реальность будет ноэзой, а поселившийся в ней смысл — ноэмой. Например, «воспринятое-дерево-в-цвету» есть ноэма моей в данный момент перцепции [Здесь мы весьма грубо излагаем крайне тонкую теорию. Правда, детали ее не интересуют нас непосредственным образом]. Но в этом, принадлежащем всякому реальному сознанию, «ноэматическом смысле» нет ничего реального.
«Каждое переживание («Erlebnis») осуществляется таким образом, что имеется принципиальная возможность направить взгляд или на него самого и его реальные компоненты, или же в противоположном направлении — на ноэму. Например, на дерево, воспринятое как таковое. В этом втором направлении взгляд встретится с истиной, с объектом в логическом смысле, но это такой объект, который не смог бы существовать через себя самого. Его «esse» состоит исключительно в «percipi». Однако формулировку эту не следует понимать в духе Беркли, поскольку «percipi» не содержит здесь «esse» в качестве реального элемента» [Ideen, S.206].
Таким образом, ноэма — это некое небытие (neant), идеальное существование которого близко к типу существования «лектон» у стоиков. Это лишь необходимый коррелят ноэзы: «Эйдос ноэмы отсылает к эйдосу поэтического сознания; они эйдетически имплицируют друг друга» [Ideen, S.206].
Но если это так, то как в условиях редукции отличить воображаемого мною Кентавра от цветущего дерева, которое я же воспринимаю? «Воображенный Кентавр» также является ноэмой полностью поэтического сознания. Он не более чем ничто (rien) и точно также нигде не существует, в чем мы только что и убедились. Однако, до редукции в самом этом небытии (neant) мы обнаружили средство отличить фикцию от перцепции: цветущее дерево существует где-то вне нас, его можно потрогать, обнять; затем отвернуться и, повернувшись вновь, обнаружить его на том же самом месте. Кентавра же, наоборот, нет нигде, ни во мне, ни вне меня. Но вот дерево как вещь заключено в скобки, и мы узнаем в нем всего лишь ноэму нашей наличной перцепции; и как таковая ноэма эта есть нечто ирреальное, точно также как и кентавр.
«Безусловно, настоящее дерево как часть природы менее всего есть вот это вот «дерево-воспринятое-как-таковое», и которое в качестве «того-что-воспринято» принадлежит смыслу перцепции неотчуждаемым образом. Безусловно, настоящее дерево может гореть, распадаться на химические элементы и т. д. Но смысл — как элемент, необходимо принадлежащий смыслу вот этой перцепции, — гореть не может, в нем нет химических элементов и физических сил, он не обладает реальными свойствами» [Ideen, S.184].
Тогда, откуда это различие образа и перцепции? И почему, когда устраняется барьер феноменологической редукции, мы обнаруживаем мир реальный и мир воображаемый?
Можно ответить, что все это идет от интенциональности, т. е. ноэтического акта. Но нам возразят и скажут — разве не вы сами заявляли, что основу действительного различия образа и перцепции Гуссерль полагает через их интенцию, а не материал. Впрочем, и сам он в «Ideen» различает ноэмы образов и ноэмы воспоминаний, или воспринятых вещей.
«Речь везде может идти о цветущем дереве, и дерево это может представать таким образом, что для верного описания того, что является как таковое, надо будет пользоваться строго одними и теми же выражениями. Но тем не менее ноэматические корреляты по сути своей различны — идет ли речь о перцепции, воображении, образном представлении, воспоминании и т. д. Явление же характеризуется то как «реальная плоть и кровь», то как фикция, то как представление в воспоминании и т. д.» [Ideen, S.188].
Как это понимать? Могу ли я по своей воле вдохнуть жизнь в какую-либо запечатленную материю как в перцепцию или образ? И что в таком случае означает «образ» или «вещь, бывшая в восприятии»? Достаточно ли для конституирования образа одного лишь отказа связать ноэму «дерево-в-цвету» с предшествующими поэмами? Именно так, конечно, и поступают перед гравюрой Дюрера, которую в зависимости от желания мы можем воспринимать либо как объект-вещь, либо как объект-образ. Но все дело в том, что речь идет о двух разных интерпретациях материала одних и тех же впечатлений. Однако, как только вопрос касается психического образа, каждый может подтвердить, что возможно так оживить hyle, чтобы она превратилась в перцептуальный материал. Подобная амбивалентность возможна лишь в немногих привилегированных случаях (картина, фотография, имитация и т. д.). Поэтому было бы вполне допустимо еще раз объяснить, почему мое сознание преднамерено полагать материал скорее в образе, нежели в перцепции. Проблема эта имеет отношение к тому, что Гуссерль называет мотивациями. И вполне понятно, что оживление запечатленного материала гравюры для превращения его в образ, зависит от внутренних мотивов (поскольку невозможно, чтобы тот человек был там, на гравюре и т. д.). В целом мы вернулись к внутренним критериям Лейбница и Шпеера. Но если то же самое верно и для психического (mentale) образа, то окольным путем мы отправлены к трудностям предшествующей главы. Там неразрешимая проблема формулировалась так: каким образом обнаруживаются характеристики действительно образа? Теперь же непонятно, как найти мотивы, преобразующие материал скорее в образ, нежели в перцепцию. В первом случае мы отвечаем так: если разные психические содержания эквивалентны, то нет никаких средств для определения действительно образа. Во втором же случае ответ будет следующим: если материал перцепции и образа один и тот же, то не может быть никакого приемлемого мотива для их различения.
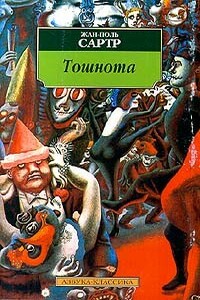
«Тошнота» – первый роман Ж.-П.Сартра, крупнейшего французского писателя и философа XX века. Он явился своего рода подступом к созданию экзистенционалистской теории с характерными для этой философии темами одиночества, поиском абсолютной свободы и разумных оснований в хаосе абсурда. Это повествование о нескольких днях жизни Антуана Рокантена, написанное в форме дневниковых записей, пронизано острым ощущением абсурдности жизни.
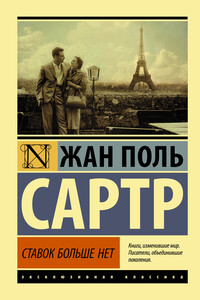
Роман-пьеса «Ставок больше нет» был написан Сартром еще в 1943 году, но опубликован только по окончании войны, в 1947 году. В длинной очереди в кабинет, где решаются в загробном мире посмертные судьбы, сталкиваются двое: прекрасная женщина, отравленная мужем ради наследства, и молодой революционер, застреленный предателем. Сталкиваются, начинают говорить, чтобы избавиться от скуки ожидания, и… успевают полюбить друг друга настолько сильно, что неожиданно получают второй шанс на возвращение в мир живых, ведь в бумаги «небесной бюрократии» вкралась ошибка – эти двое, предназначенные друг для друга, так и не встретились при жизни. Но есть условие – за одни лишь сутки влюбленные должны найти друг друга на земле, иначе они вернутся в загробный мир уже навеки…
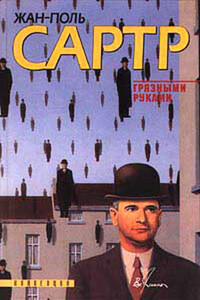
В первой, журнальной, публикации пьеса имела заголовок «Другие». Именно в этом произведении Сартр сказал: «Ад — это другие».На этот раз притча черпает в мифологии не какой-то один эпизод, а самую исходную посылку — дело происходит в аду. Сартровский ад, впрочем, совсем не похож на христианский: здание с бесконечным рядом камер для пыток, ни чертей, ни раскаленных сковородок, ни прочих ужасов. Каждая из комнат — всего-навсего банальный гостиничный номер с бронзовыми подсвечниками на камине и тремя разноцветными диванчиками по стенкам.
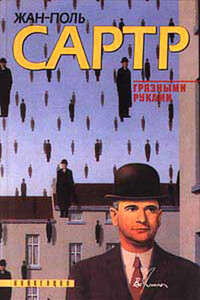
За городскими воротами, зашагав прочь от Аргоса, странствующий рыцарь свободы Орест рано или поздно не преминет заметить, что воспоминание о прикованных к нему взорах соотечественников мало-помалу меркнет. И тогда на него снова нахлынет тоска: он не захотел отвердеть в зеркалах их глаз, слиться с делом освобождения родного города, но без этих глаз вокруг ему негде убедиться, что он есть, что он не «отсутствие», не паутинка, не бесплотная тень. «Мухи» приоткрывали дверь в трагическую святая святых сартровской свободы: раз она на первых порах не столько служение и переделка жизни, сколько самоутверждение и пример, ее нет без зрителя, без взирающих на нее других.
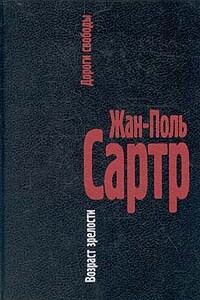
"Дороги свободы" (1945-1949) - незавершенная тетралогия Сартра, это "Возраст зрелости", "Отсрочка", "Смерть в душе". Отрывки неоконченного четвертого тома были опубликованы в журнале "Тан модерн" в 1949 г. В первых двух романах дается картина предвоенной Франции, в третьем описывается поражение 1940 г. и начало Сопротивления. Основные положения экзистенциалистской философии Сартра, прежде всего его учение о свободе, подлинности и неподлинности человеческого существования, воплощаются в характере и поступках основных героев тетралогии. .
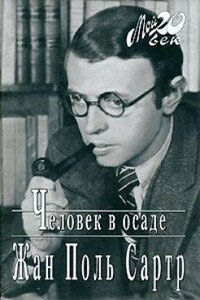
Книга «Экзистенциализм — это гуманизм» впервые была издана во Франции в 1946 г. и с тех пор выдержала несколько изданий. Она знакомит читателя в популярной форме с основными положениями философии экзистенциализма и, в частности, с мировоззрением самого Сартра.

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.