Воображение - [3]
«При любви к парадоксам и надлежащем понимании двусмысленности следующей фразы, позволительно будет сказать, что для Феноменологии, как и всех других эйдетических Наук, Фикция есть жизненный элемент и источник вечных истин» [Ideen, S.132; «эйдетические» — науки о сущности, математика, например, эйдетическая наука]. Ценимое феноменологией, имеет значение и для психологии. Разумеется, мы не собираемся отрицать ту существенную роль, которую должны играть все формы эксперимента и индукции для конституирования психологии. Но прежде чем экспериментировать, не следует ли как можно более точно выяснить на чем будет проводиться эксперимент? И сверх чего опыт не даст ничего, кроме смутных и противоречивых данных.
«Великая эпоха (Физики) начинается с Нового времени, когда в качестве физического метода сразу и в широких масштабах начинает использоваться Геометрия, которая уже в Античности (и главным образом платониками) была основательно разработана как чистая эйдетика. И тогда понятно, что сущность материальной вещи в том, чтобы быть протяженной, res extens; и, следовательно, геометрия является онтологической дисциплиной, которая соответствует сущностному моменту вещи, ее пространственной структуре. Понятно также и то, что универсальная сущность вещи несет в себе и множество других структур. Именно это хорошо показывает тот факт, что научное развитие сразу же пошло в этом новом направлении; предполагалось конституировать целую совокупность новых дисциплин, которые, координируясь геометрией, должны были бы выполнять одну и ту же функцию — рационализировать эмпирические данные» [Ideen, S.20].
То, что Гуссерль пишет о Физике, можно повторить и для Психологии. Если она откажется от противоречивых и запутанных экспериментов и начнет извлекать на свет сущностные структуры, составляющие объект ее исследований, то это будет для нее величайшим прогрессом. Мы, например, видели, что классическая теория образа содержит в себе имплицитную метафизику, не избавившись от которой сразу приступают к экспериментам, волоча туда целую кучу предрассудков, зачастую восходящих еще к Аристотелю. Но разве нельзя до каких бы то ни было опытов (будет ли это экспериментальная интроспекция или любая другая процедура) задаться предварительным вопросом — что же такое образ? Обладает ли этот, столь важный элемент психической жизни, сущностной структурой, доступной для интуиции, и возможно ли зафиксировать ее в словах и понятиях? Имеются ли утверждения, несовместимые с сущностной структурой образа? И т. д., и т. д. Одним словом, Психология является эмпиризмом, который еще только ищет свои эйдетические принципы. Гуссерль, которого весьма часто и, впрочем, совершенно напрасно упрекают за принципиальную неприязнь к данной дисциплине, наоборот, оказывает ей весьма значительную услугу: он не отрицает существование опытной психологии, но считает, что психологу прежде всего необходимо как минимум конституировать эйдетическую психологию. Естественно, подобная психология будет заимствовать свои методы не у математических наук, которые дедуктивны, а у наук феноменологических, которые дескриптивны. Это будет «феноменологическая психология» и во внутри-мировом (intra-mondain) плане она будет исследовать и фиксировать сущности подобно тому, как это делает феноменология в плане трансцендентальном. Разумеется, здесь следует говорить и об эксперименте, поскольку любое интуитивное видение сущности остается экспериментом. Но таким, который предшествует всякому экспериментированию.
Следовательно, работа над образом должна стать усилием по реализации феноменологической психологии в каком-либо отдельном пункте. Необходимо конституировать эйдетику образа, т. е. зафиксировать и описать сущность этой психологической структуры такой, какой она предстает в рефлексивной интуиции. И лишь после того, как будет определена совокупность условий, которую то или иное психологическое состояние с необходимостью реализует, чтобы быть образом, следует перейти от достоверного к вероятностному, спрашивая опыт (experience) о том, что может он сообщить нам о таких образах, которые проявляются в сознании современного человека.
Что же касается вообще подобной проблематики, то Гуссерль дает нам не только метод; в «Ideen» имеются предпосылки для совершенно новой теории образа. По правде говоря, Гуссерль лишь затрагивает этот вопрос; и к тому же, как станет ясно в дальнейшем, мы не во всех пунктах с ним согласны. С другой стороны, заметки эти нуждаются в углублении и дополнении. Но, тем не менее, все его указания имеют огромное значение.
Фрагментарный характер гуссерлевских наблюдений крайне затрудняет их изложение. И не надо надеяться найти в них какую-то систематическую конструктивность, это лишь совокупность ценных указаний.
Сама концепция интенциональности призвана восстановить понятие образа. Известно, что для Гуссерля любое состояние сознания, или, как говорят немцы, а вслед за ними и мы, любое сознание есть сознание о чем-то. Все «Erlebnisse», имеющие нечто общее с этим сущностным свойством, называются также «Erlebnisse intentionnelles»; и в той мере, в какой они являются сознанием о чем-то, как раз и говорится, что они «интенционально соотносятся с этим что-то» [Ideen, S.64; непереводимый на французский язык термин «Erlebnis происходит от глагола erleben. «Егlebnis» (вероятно) — это «пережитое» или «прожитое» («vecu»)].
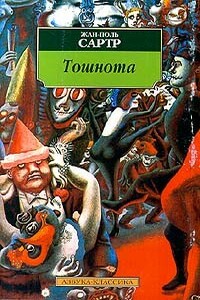
«Тошнота» – первый роман Ж.-П.Сартра, крупнейшего французского писателя и философа XX века. Он явился своего рода подступом к созданию экзистенционалистской теории с характерными для этой философии темами одиночества, поиском абсолютной свободы и разумных оснований в хаосе абсурда. Это повествование о нескольких днях жизни Антуана Рокантена, написанное в форме дневниковых записей, пронизано острым ощущением абсурдности жизни.
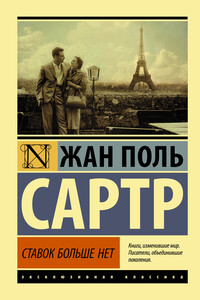
Роман-пьеса «Ставок больше нет» был написан Сартром еще в 1943 году, но опубликован только по окончании войны, в 1947 году. В длинной очереди в кабинет, где решаются в загробном мире посмертные судьбы, сталкиваются двое: прекрасная женщина, отравленная мужем ради наследства, и молодой революционер, застреленный предателем. Сталкиваются, начинают говорить, чтобы избавиться от скуки ожидания, и… успевают полюбить друг друга настолько сильно, что неожиданно получают второй шанс на возвращение в мир живых, ведь в бумаги «небесной бюрократии» вкралась ошибка – эти двое, предназначенные друг для друга, так и не встретились при жизни. Но есть условие – за одни лишь сутки влюбленные должны найти друг друга на земле, иначе они вернутся в загробный мир уже навеки…
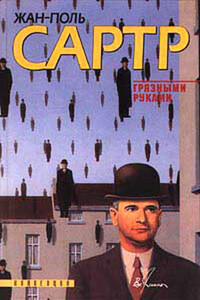
В первой, журнальной, публикации пьеса имела заголовок «Другие». Именно в этом произведении Сартр сказал: «Ад — это другие».На этот раз притча черпает в мифологии не какой-то один эпизод, а самую исходную посылку — дело происходит в аду. Сартровский ад, впрочем, совсем не похож на христианский: здание с бесконечным рядом камер для пыток, ни чертей, ни раскаленных сковородок, ни прочих ужасов. Каждая из комнат — всего-навсего банальный гостиничный номер с бронзовыми подсвечниками на камине и тремя разноцветными диванчиками по стенкам.
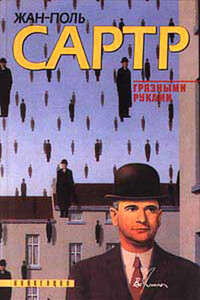
За городскими воротами, зашагав прочь от Аргоса, странствующий рыцарь свободы Орест рано или поздно не преминет заметить, что воспоминание о прикованных к нему взорах соотечественников мало-помалу меркнет. И тогда на него снова нахлынет тоска: он не захотел отвердеть в зеркалах их глаз, слиться с делом освобождения родного города, но без этих глаз вокруг ему негде убедиться, что он есть, что он не «отсутствие», не паутинка, не бесплотная тень. «Мухи» приоткрывали дверь в трагическую святая святых сартровской свободы: раз она на первых порах не столько служение и переделка жизни, сколько самоутверждение и пример, ее нет без зрителя, без взирающих на нее других.
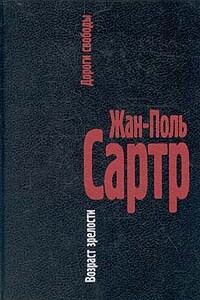
"Дороги свободы" (1945-1949) - незавершенная тетралогия Сартра, это "Возраст зрелости", "Отсрочка", "Смерть в душе". Отрывки неоконченного четвертого тома были опубликованы в журнале "Тан модерн" в 1949 г. В первых двух романах дается картина предвоенной Франции, в третьем описывается поражение 1940 г. и начало Сопротивления. Основные положения экзистенциалистской философии Сартра, прежде всего его учение о свободе, подлинности и неподлинности человеческого существования, воплощаются в характере и поступках основных героев тетралогии. .
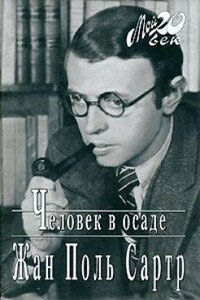
Книга «Экзистенциализм — это гуманизм» впервые была издана во Франции в 1946 г. и с тех пор выдержала несколько изданий. Она знакомит читателя в популярной форме с основными положениями философии экзистенциализма и, в частности, с мировоззрением самого Сартра.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.