Воля (Беглые воротились) - [5]
— Слыхала, матушка, про Талаверку?
— Про какого?
— Про Афанасия, что бежал тут по соседству от какой-то барыни двадцать четыре года назад? Он в столярах у нее был тут, в каретниках и в ее хуторе проживал.
— Ох, не помню что-то, сынку, не помню. Так что же?
— Столкнулся я с ним два года назад, в Ростове-на-Дону… Он там уже богачом живет: дом свой, своя мастерская. Ну, и есть у него дочка… Настя… Мы полюбились с нею, отцу сказали. А он и говорит: «Из рассказов твоих, Илько, вижу я, что ты из одних мест со мною; барыни моей ты знать не можешь: мал был, как бежал с Волги сюда в низовые края. И я, говорит, не знаю, жива ли моя госпожа-барыня. А только вот что. Хоть богат я, говорит, теперь, хоть волен, а помереть хотелось бы на родной стороне. Теперь, говорит, готовится всем воля; скоро, не скоро ли, слышно, всем землю дадут, кто по своей воле воротится домой в общества свои к нынешним пока господам. Я мастерства кинуть не могу, а ты иди, получи на своем месте землю, запишись в мир, дай знать, что пристроился, тогда приходи и бери себе Настю…» На этом зароке мы и расстались. Я дал слово землю себе на родном селе добыть, а он выдать за меня Настю; так как же мне идти в дворовые? Подумайте!..
Ивановна задумалась.
Поговорили еще немного. Илья разделся. Мать постлала ему постель на своей кровати у печи. Ложась спать, Илья увидел под скамьей в углу какой-то клубочек. Кто-то во весь нос сопел, свернувшись на полу котенком.
— Кто это? — спросил Илья.
— На посылках у отца сиротка тоже тут один, Власик!
Илья со вздохом лег. «Вот у отца теперь на посылках есть такой же, как я был когда-то у немца!» — подумал он.
Ивановна погасила свечку и тоже легла, вздыхая, на печи. Вскоре пришел с дозора Роман Антоныч; не зажигая свечки и не раздеваясь, лег на лавке у стола и долго лежал, не шелохнувшись, но видно было, что он не спал. Илье же всю ночь грезились вольные степи, таинственные перебродки по лесам и оврагам, гнедко, привязанный в лесу, надежды завестись своим домком и Настя. За час или два до рассвета Илья встал, тихо оделся, тихо отпер двери и вышел. Предутренний воздух был свеж.
«Надежда плохая, — подумал Илья, — теперь вряд ли получишь землю от отца! Или опять уйти на все четыре стороны? всем ветрам в пояс поклониться? Нет, будь, что будет!»
Он вышел на тропинку, по которой провела его с вечера Фрося, взобрался на знакомый с детства соседний бугор и увидел с него сквозь начинавшие яснеть сумерки не в дальнем расстоянии лесок, где привязал гнедка. Роща была оттуда не более как в трех верстах. Он быстро направился туда, вошел в кусты. Овраг был недалеко.
«Ну, гнедко, — подумал Илья, — иди теперь со мной; придется теперь продать тебя либо жиду, либо цыгану. Отец держать тебя не позволит! А я-то думал домком завестись, сад затеять, за Настей поехать на тебе!»
Илья стал звать гнедка, искать его; но след гнедка простыл. Конец ремня от уздечки висел, привязанный к дереву. Гнедко либо убежал, либо кто-нибудь его украл.
«Последнее добро и то пропало! — сказал Илья с досадою. — Пропадай же и ты теперь, моя волюшка»…
Он еще побродил по роще, звал коня, обошел весь лесок кругом, вышел на опушку, на другой высокий бугор, сел, уткнувшись головою в колени, и долго так просидел. Когда он очнулся, светлая картина родимых окрестностей и подступавшего утра тихо открылась перед ним.
Кругом шли то зеленые, пологие, то каменистые, лесами испещренные холмы. Влево расстилалась низменная, влажная луговая равнина, на которой из сумерек выходила усадьба Фросиной барыни. Конский Сырт. Прямо, отделяясь от этой низменности рекой Лихим, на крутом косогоре расстилалась Есауловка. Вправо от Есауловки и Конского Сырта, провожая извивы Лихого к его устью, шли сперва малые, потом более объемистые бугры, то горбатые, то плосковерхие, то остроголовые и изборожденные дождевыми протоками. В расщелине их в одном месте мелькнула широкая, белая туманная полоса, точно дым… Сердце Ильи дрогнуло. То была Волга… А за нею уже начала заниматься заря. Одевались огнями голубые вершины. Вместо темных пятен и щелей на холмах выяснялись леса. Между ними в отдалении узнавались кое-где вразмет кинутые поселки, бог весть откуда и когда тут севшая жильями, всякая набродная и перехожая вольница. Сизая тяжелая туча, нахлобучившись на низовое Заволжье, еще не пускала на окрестности довольно света. Все еще тонуло в сумерках; нагорные земли по сю сторону Волги и гладкая привольная ширь ее луговой стороны, с ее жирными, тучными и хлебородными залежами и целинами. Тронулся ветер… Отозвались ближние и дальние лесистые овраги и горы, так знакомые Илье, с их местными поволжскими прозвищами. Застонал любовными призывами Иволгин орешник; застукал наполненный шорохами и всякой таинственной, весеннею тревогой развесистый Дятловый липняк; зазвенели серебряными трубами низменные темные Соловьиные верболозы; зазвучали золотою дудкой песчаные Кукушкины кучугуры, засвистели кудрявые Дроздовые березняки, заклектали старые дуплистые громадные дубы на Орлиных лысинах соседних гор. Солнце выбилось, наконец, из-под тучи. Илья встал, прошел несколько шагов и опять остановился. Влево, вдали над Волгой, обрисовался новый ряд бугров. А по ним мелькали, уже будто сквозные и голубые от воздуха, новые бугры и курганы. То были бугры Стеньки Разина. «На них Степан Тимофеич последний свой опочив держал, — говорили в народе, — он тут последним станом стоял; а как его в плен взяли, любимого своего есаула с братией послал селом поблизости сесть; они сели, и вышла из вольной кости нынешняя княжеская Есауловка!» Илья Танцур прикрыл глаза ладонью. Один двугорбый бугор, полосатый, как бухарская тармалама, сидел, свесившись, будто бородатый старик над водою. Он прозывался Емелькиными ушами, или ушами Пугача. На них Пугач двух воеводских дозорщиков повесил. С той поры, точно слушая что, торчали эти горбы, Емелькины уши. А еще далее шли отвесные и дикие Авдулины бугры, за которыми было село Авдуловка, происходившее также от каких-то вольных костей, занесенных сюда первыми украинскими и русскими колонизаторами этого края. А величавая, вечно широкая Волга голубой пеленой омывала подошвы бугров, пугливо ласкаясь к ним и отражая в себе цвета их зеленых, желтых и багровых глин, белых песков и разновидных хрящей и слюд. Роса сверкала по травам. Дикие тюльпаны желтыми и алыми колокольчиками глядели из расселен скал, по крутым косогорам. Яркий синяк и белые пушистые косатики заливали веселыми сплошными полосами низменные равнинки. Звонкие вскрикивания пробуждающихся птиц становились чаще и громче. Тихие прибрежные затоны и заливы Волги и Лихого еще дремали своими ивами и камышами, окутанные туманами. А уже по гладкой равнине вод мимо бугров, затонов, песчаных россыпей и степей двигались, белея парусами, вечные караваны Синего морца, Волги, всякие расшивы, беляны, мокшаны, коломенки и простые рыбачьи лодки. Над ними мелькали, отражаясь в воде, белокрылые чайки. Сонные бакланы, бабы-птицы и лебеди взлетали из-под носов наплывающих барок. Отзывались заволжские озера, окрещенные также народными именами: журавлиные, лебяжьи, куличьи, гусиные, утиные и всякие. Заря занялась невиданная, роскошная. Закопошился люд во всех концах. Двинулись стада овец по буграм, гурты рогатого скота и табуны лошадей на лугах и равнинах, где сто лет назад кочевали по тихим сыртам и улусам одни калмыки да татары. А по голубым прибрежьям и затонам раздавались голоса знакомой трудовой и исконной песни рабочего люда обоих берегов Волги и Дона, песни, построившей по этим рекам все села и города, заводы и барские дома, церкви, монастыри, пристани и остроги, песни, которая начинается не то стоном, не то могучим вздохом: «Ох, дубинушка, охни!»
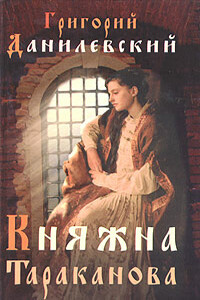
Княжна Тараканова — любовный исторический роман Григория Петровича Данилевского, посвященный трагической судьбе мнимой дочери императрицы Елизаветы Петровны. Княжне Таракановой подарили свое сердце гетман Огинский, немецкий государь князь Лимбург и граф Алексей Орлов — самый коварный донжуан Российской Империи. Эту женщину принесли в жертву, но страсть и любовь бессмертны...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
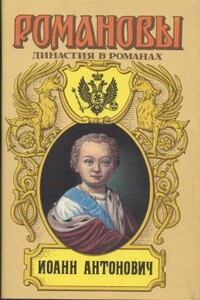
Тринадцать месяцев подписывались указы именем императора Иоанна Антоновича… В борьбе за престолонаследие в России печальная участь постигла представителей Брауншвейгской фамилии. XVIII век – время дворцовых переворотов, могущественного фаворитизма, коварных интриг. Обладание царским скипетром сулило не только высшие блага, но и роковым образом могло оборвать человеческую жизнь. О событиях, приведших двухмесячного младенца на российский престол, о его трагической судьбе рассказывается в произведениях, составивших этот том.В том вошли: Е.
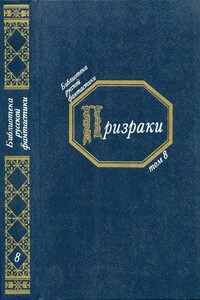
В том вошли наряду с произведениями фантастического жанра Ф. Достоевского и И. Тургенева малоизвестные сочинения Н. Чернышевского, Г. Данилевского, А. К. Толстого. Здесь же публикуется утопия М. Михайлова «За пределами истории», которая переносит читателя в доисторические времена. В «Приложении» впервые за последние 90 лет печатается замечательный труд И. Никифоровского «Нечистики», основанный на народно-бытовой фантастике.

Григо́рий Петро́вич Даниле́вский (14 (26) апреля 1829, село Даниловка, Изюмский уезд, Слободско-Украинская губерния — 6 (18) декабря 1890, Санкт-Петербург) — русский и украинский писатель и публицист, автор романов из истории России и Украины XVIII–XIX веков.Родился в богатой дворянской семье харьковского помещика, отставного поручика Петра Ивановича Данилевского (1802–1839). По семейным преданиям, подтверждённым, впрочем, и серьёзными документами, основателю этого дворянского рода, Даниле Данилову сыну в 1709 году выпала честь принимать в своём доме Петра I, возвращавшегося из Азова в Полтаву.

Григо́рий Петро́вич Даниле́вский (14 (26) апреля 1829, село Даниловка, Изюмский уезд, Слободско-Украинская губерния — 6 (18) декабря 1890, Санкт-Петербург) — русский и украинский писатель и публицист, автор романов из истории России и Украины XVIII–XIX веков.Родился в богатой дворянской семье харьковского помещика, отставного поручика Петра Ивановича Данилевского (1802–1839). По семейным преданиям, подтверждённым, впрочем, и серьёзными документами, основателю этого дворянского рода, Даниле Данилову сыну в 1709 году выпала честь принимать в своём доме Петра I, возвращавшегося из Азова в Полтаву.
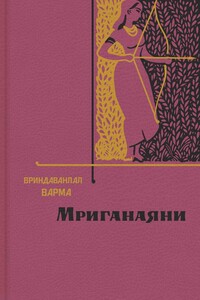
Роман индийского писателя повествует об истории Индии на рубеже XV и XVI веков, накануне образования империи Великих Моголов, рассказывает о междоусобной борьбе раджпутских княжеств. Книга завоевала пять литературных премий и получила широкое признание в своей стране.

Жан-Мишель Тернье, студент Парижского университета, нашел в закоулке на месте ночной драки оброненную книгу — редкую, дорогую: первый сборник стихов на французском языке, изданный типографским способом: «Le grant testament Villon et le petit . Son Codicille. Le Jargon et ses Balades». Стихи увлекли студента… Еще сильнее увлекла личность автора стихов — и желание разузнать подробности жизни Вийона постепенно переросло в желание очистить его имя от обвинений в пороках и ужасных преступлениях. Студент предпринял исследование и провел целую зиму с Вийоном — зиму, навсегда изменившую школяра…
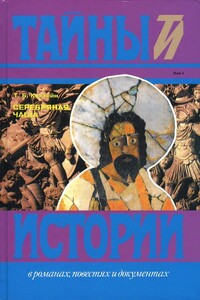
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
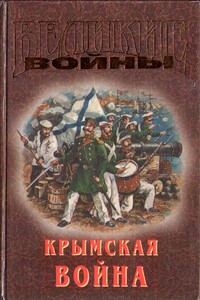
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.