Вольтер - [18]
Знакомство со специальной теорией тяготения было важно для Вольтера не столько само по себе, как тем, что оно сообщило непреоборимый импульс для дальнейшего развития прирожденного ему здравого и положительного ума. Оно освободило его ум, помогло ему не только вступить в борьбу с теорией вихрей, но не устрашиться и этих ужасных философских снарядов – монад, достаточного основания и предустановленной гармонии, которыми в то время Лейбниц держал в страхе европейскую философию. «О, метафизика!» – воскликнул Вольтер, – с ней мы дошли до той степени развития, на которой стояли древнейшие друиды»[59].
Учение Локка направляло ум Вольтера по тому же пути терпеливого и осторожного опыта, так как тот же метод, давший начало теории тяготения, способствовал появлению на свет и опытной психологии. Ньютон вместо разработки теории вихрей или изобретения другой умозрительной теории обратился к терпеливому и старательному изучению явлений природы; точно так же и Локк – вместо того, чтобы изобретать роман души, по выражению Вольтера, благоразумно обратился к наблюдениям над явлениями мысли и «преобразовал метафизику в экспериментальную физику души»[60].
Господствовавший тогда во Франции философ Мальбранш[61] покорял умы тех, кто приходил в восторг от его стиля. Все верили ему в том, чего сами не понимали, потому что он правильно начинал с того, что все понимали. Он пленял своим изяществом, как Декарт смелостью; но Локк был только мудрец[62]. «В конце концов, – писал Вольтер, – тот, кто изучал Локка или, лучше сказать, кто глубоко проникся системой его учения, должен смотреть на всех Платонов как на изящных болтунов, и только». С точки зрения истинной философии глава из Локка и Кларка по сравнению с болтовней древних философов есть то же, что оптика Ньютона в сравнении с оптикой Декарта[63]. Здесь любопытно заметить, что де Местр, который ставил Платона ниже, чем ставил его Вольтер, и который едва ли относился с меньшим презрением к самому Вольтеру, говорил: при изучении философии презрение к Локку есть начало познания[64]. Напротив, Вольтер был глубоко тронут, когда узнал, что его племянница изучает великого английского философа, причем он испытывал то же, что испытывает любящий отец, проливая слезы радости при виде успехов своих детей[65].
Локк, подобно тому как Август в своей сфере эдиктом de coercendo intra f nes imperio, ограничил определенную область для знания и тем дал последнему прочное основание[66]. «Локк, – говорит Вольтер, – в другом месте, изучает развитие человеческого разума точно так же, как хороший анатом рассматривает строение человеческого тела: вместо того чтобы определять сразу все, что недоступно нашему познанию, он последовательно исследует то, что необходимо знать; иногда он имеет мужество утверждать что-либо положительно, а иногда – сомневаться»[67]. Это вполне верная оценка. Локк понимал всю безнадежность достигнуть познания вещей самих в себе и всю необходимость определить прежде всего пределы человеческого знания; он ясно сознавал полную невозможность абсолютного и трансцендентного знания и ограниченность наших мыслительных и познавательных способностей в пределах опыта, всегда имеющего характер относительности. Сомнение, которое Вольтер восхваляет в учении Локка, не имеет ничего общего с теми душевными колебаниями, которые в наши дни стяжали себе неумеренное и поэтическое восхваление как благородное сомнение, которое будто бы заключает в себе больше истинной веры, чем половина символов обычной веры. Сомнение Локка не было сентиментальным детским плачем об отсутствии света; это отнюдь не было религиозное сомнение, а только философское, и касалось лишь вопроса о возможности онтологического[68] знания, причем как основы веры, так и практическая жизнь оставались совершенно в таком же виде, как они были. Непреодолимое стремление к реальному влекло ум Вольтера к тому писателю, который своим строгим приговором закрыл путь в страну метафизических грез и рассеял неумеренные притязания априорных достоверностей, ни к чему не приводящих и ничего не доказывающих. Чуткий инстинкт Вольтера ясно подсказывал ему, что люди могли бы посвятить себя на служение великой общественной задаче совершенствование человеческого рода, если бы перестали сосредоточивать свое внимание на неразрешимых вопросах; а Локк длинным путем пришел именно к тому же и показал, насколько неразрешимы вопросы, привлекающие к себе самые деятельные умы Европы со времени упадка теологии.
Само собой разумеется, что взгляды Вольтера на возникновение идей, на вопрос о том, всегда ли душа находится в деятельном состоянии, на причину падения яблока, на неизменное вращение планет по их орбитам приобрели более научный характер. Но все это, вместе взятое, имело для него менее важное значение, чем то глубокое и живое чувство, какое пробудилось и заняло первенствующее место в его душе при созерцании безграничных областей знания, впервые открытых отважными, но вместе с тем и вполне надежными исследователями английской мысли. Это чувство Вольтера свидетельствовало о благородной вере в способность ума при помощи исследований, основанных на опыте, достигнуть истины о вере, пылкость которой не мешала ее устойчивости, – и вместе с тем о глубоком уважении к истине как к могучей силе, приносящей человеческому роду щедрые и неисчислимые дары. Этим объясняется то оживленное отношение, которое сказалось в примечаниях, сделанных в то время Вольтером (1728) на знаменитые «Мысли Паскаля». Тогда на эти примечания посмотрели как на смелую сатирическую выходку легкомысленного поэта, направленную против глубокомысленного философа, – на деле же они были живым протестом здравого смысла против натянутого, болезненного и часто софистического представления человеческой природы и условий человеческого существования. Вольтер бросил луч света сквозь облако того сомнения, на котором Паскаль
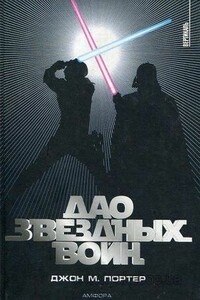
Что общего между «Дао-Дэ цзин», основополагающим текстом даосизма, и популярным киносериалом «Звездные войны», созданным голливудским мэтром Джорджем Лукасом? По словам автора, толчком к написанию этой книги послужила мысль о том, что «Звездные войны» способствуют пониманию даосизма, его жизнеспособной системе духовных ценностей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перевод книги, вышедшей только что в ФРГ и имевшей большой резонанс. Автор - видный представитель консервативной политической философии, профессор университета Хоэнхайм в Штутгарте, - предупреждает об опасности одностороннего либерализма, который притязает на самостоятельное решение всех проблем и заводит общество в тупик. Выход из кризиса либерализма автор видит в возрождении класического либерализма и в непременном взаимодействии его с новым, демократическим консерватизмом.Книга адресована не только немецкому, но и российскому читателю.

Книга является уникальным путеводителем по науке будущего, контуры которой выстраиваются через беседы автора с рядом влиятельных мыслителей нашего века — В.Гейзенбергом, Дж. Кришнамурти, Г.Бэйтсоном, С.Грофом, А.Уотсом, Р.-Д.Лэйнгом и других. Следуя за Капрой, мы оказываемся на передовом рубеже таких разных дисциплин, как физика, медицина, футурология, психиатрия, семейная терапия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
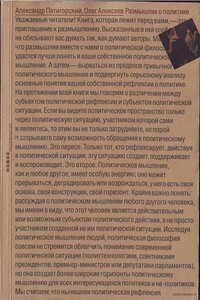
Предмет размышлений философов Александра Пятигорского и Олега Алексеева - политическое мышление и политическая философия. Одним из стимулов к написанию этой книги стало эмпирическое субъективное ощущение авторов, что определенный период развития политического мышления завершился в конце XX века. Его основные политические категории - абсолютная власть, абсолютное государство, абсолютная революция и абсолютная война - исчерпали себя уже несколько десятилетий назад. Александр Пятигорский и Олег Алексеев уверены: мир входит в новую фазу политической рефлексии, которая отмечена иным пониманием времени.