Волшебно-сказочные корни научной фантастики - [33]
Чем объясняется устойчивая атмосфера опасности, которой в сказке всегда окружается образ леса, начиная с мифологических времен и вплоть до начала XX в.? Инициации и мифологические представления о смерти, которые В. Я. Пропп обнаруживает в качестве древнейшей основы образа сказки безусловно, рождали это ощущение опасности леса. Оно позднее подкреплялось средневековой концепцией пространства, в которой лес находился вне «благоустроенного», «культурного» мира.[237] Наконец, как подчеркивает С. А. Токарев, для крестьянского сознания «лес был действительно больше врагом, чем средством существования», в чем сказалась «тысячелетняя традиция земледельческого народа».[238]
Структуру «опасного» леса в сказке образуют многочисленные сопоставления и противопоставления. Отметим только важнейшие.
Лес устойчиво связывается с женским началом. Типичный его обитатель, который может рассматриваться как персонифицированный образ леса — Бага-яга. Она тоже может быть и доброй, и злой, но всегда, как и лес в целом, оказывается существом «опасным», даже когда играет роль помощника.[239] Связь леса (дерева) с образом женщины уходит своими корнями в древнейшие мифологические представления.
Лес, как уже упоминалось выше, может уподобляться горе. Список мест, в которых находится избушка Бабы-яги (как правило, это лес), представленный в монографии Н. В. Новикова,[240] можно дополнить еще одним — избушка Бабы-яги находится на высокой горе (Аф., №178). С точки зрения тождества «лес — гора» Змей Горыныч может интерпретироваться как лесное существо, что усиливает «опасный» характер образа.
Лес обычно противопоставляется дому. «Это противопоставление может быть истолковано в социально-экономическом плане как противопоставление освоенного человеком, ставшего его хозяйством, неосвоенному им».[241] Это общефольклорное противопоставление в сказке особо подчеркнуто тем, что в дремучем лесу дома быть не может. Нельзя согласиться с имеющимися в фольклористике утверждениями о том, что избушка Бабы-яги является домом. Она изображается как антидом: «Забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские, с глазами, вместо верей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами» (Аф., №104). Когда же избушка изображается как нормальное жилище, на поверку оказывается, что в ней скрывается ловушка. В. Я. Пропп подчеркивает, что «эта избушка — сторожевая застава»,[242] говоря современным языком, — своеобразная проходная будка на границе миров. Можно ли жить в проходной будке? Собственно, герой сам заявляет: «Мне не век вековать, а одна ноць ноцевать»,[243] тем самым отвечая на этот вопрос. Иногда избушка вообще изображается как не дом, а, например, дуб.[244]
«Большой дом» в лесу тоже на поверку оказывается антидомом, хотя это менее заметно, чем в избушке Бабы-яги. В. Я. Пропп, посвятивший «Большому дому» специальную главу своей монографии, подчеркивает следующие характерные особенности «Большого дома»: этот дом, во-первых, огромен, во-вторых, огражден так, что «ни войти во двор, ни заехать добрым молодцам», в-третьих, он многоэтажен и все отверстия в нем (окна и двери) тщательно замаскированы.[245] Все эти особенности говорят о «ненастоящей», «неживой» природе этого Большого дома: «Не-дом, неправильный (или особенный) дом — это дом, в котором либо нет, либо слишком много отверстий».[246] Именно так изображается в сказке «Большой дом». Попасть в него часто можно лишь через окно верхнего этажа. Но, как отмечают фольклористы, «через окно осуществляется символическая связь с миром мертвых»,[247] поэтому, например, «основная функция окна в плаче — нерегламентированный вход в дом, которым, в частности, пользуется смерть».[248] Если в обрядовом плаче в дом, где находятся живые, через окно проникает смерть, то в волшебной сказке перед нами обращенная ситуация: герой, представляющий мир живых, через окно попадает в «Большой дом», связанный с представлениями о мире мертвых.
Итак, избушка Бабы-яги (а также и другие «дома» в лесу) — это антидома, они не противопоставлены лесу, они его часть, причем зачастую самая опасная. Поэтому противопоставление «лес — дом» в волшебной сказке имеет смысл только по отношению к крестьянской избе героя. В целом же лес противопоставляется саду.
Это противопоставление возникает уже на уровне лексики: темный, дремучий лес — чудесный сад. Лес связан с миром мертвых, сад — с миром живых (недаром в нем часто находятся молодильные яблоки и живая вода). Вместе с тем сад — это освоенный лес. Поэтому отмеченные выше сопоставления, характерные для леса, остаются актуальными и для сада, но приобретают противоположные значения. Сад оказывается как бы

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».

За два месяца до выхода из печати Белинский писал в заметке «Литературные новости»: «Первого тома «Ста русских литераторов», обещанного к 1 генваря, мы еще не видали, но видели 10 портретов, которые будут приложены к нему. Они все хороши – особенно г. Зотова: по лицу тотчас узнаешь, что писатель знатный. Г-н Полевой изображен слишком идеально a lord Byron: в халате, смотрит туда (dahin). Портреты гг. Марлинского, Сенковского Пушкина, Девицы-Кавалериста и – не помним, кого еще – дополняют знаменитую коллекцию.
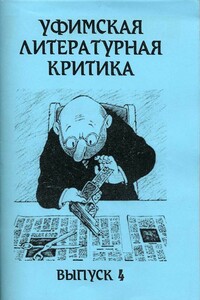
Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2005 г.: в журналах «Знамя», «Урал», «Ватандаш», «Агидель», в газетах «Литературная газета», «Время новостей», «Истоки», а также в Интернете.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.