Волей-неволей - [29]
Я ушел, едва стало светло, едва где-то в доме хлопнула дверь, а со двора донеслись звуки раскалываемых дров. "Проснулись", — подумал я, и потихоньку ушел.
В тяжкой, безысходной тоске о своем положении провел я целый день в лачуге моей бабки, не зная, что делать, куда идти. Я чувствовал однако, что надо идти "сейчас", и к вечеру почти уж окончательно решил идти пешком в Москву, не зная, что еще я там буду делать и к кому обращусь. Но идти все-таки надо непременно, неотложно, и завтра непременно. Так я порешил и так сказал бабке. Оба мы, горемычные, сидели с ней вечером на крыльце и думали. Она охала, жалела меня, а я сидел, молчал и смотрел в сторону, терзаясь кручиною моей бабки: "Боже мой! — думал я, — как она добра, как у ней привыкло страдать сердце, сколько в ней сейчас, сию минуту, печали обо мне, сколько она уж пролила слез о моей участи… Но когда же она замолчит? Хоть бы она ожесточилась на меня, мне бы было в тысячу раз легче".
Мне было до того тяжело, что я положительно как ребенок обрадовался, увидав, что к нашему крыльцу подошли обитатели старого господского дома… И старая дева и дева юная вдруг появились из-за угла. Бабка засуетилась, впала мгновенно в рабское состояние, приглашая войти, но гости не вошли. Старая дева только поклонилась бабке, поклоном "путешествующей принцессы", а юная только посмотрела на мою старуху, посмотрела своими серыми бесцеремонными глазами и ела подсолнухи…
— Ну, вы! — сказала она мне, выплюнув шелуху и опуская руку в карман, очевидно за новой горстью деревенского лакомства, — извольте одеваться… Пойдемте!
— Я…
— Нечего! Я на босу ногу… Мне нельзя на сырости… — И она показала ногу, без чулка в туфле.
— Надевайте шапку, и марш!
И я надел шапку и пошел. И опять ночевал в чужом доме.
Утром я проспал; но проснувшись, тотчас оделся и хотел идти. Однако почему-то сел на тот же диван, на котором спал, и тяжело задумался. День был великолепный, и как бы пропорционально этому великолепию увеличивалась и моя тоска, тоска одиночества моего на белом свете, тоска пребывания в этой могиле старого прошлого, томящая жажда света и дела.
— Вы продрали, что ли, глаза-то? — послышалось за дверью.
И, не дождавшись ответа, появилась юная хозяйка с тем же взглядом, в том же свободно надетом ситцевом платье.
— Наденьте вот, — сказала она голосом опытных женщин, — эту рубашку… Я взяла у Васьки новую.
И какой-то комок, пролетев от двери близко около потолка, ударился мне в грудь. Это была кумачная рубашка.
— А то на вас противно смотреть.
Я нагнулся было, чтоб подхватить рубашку, соскользнувшую на пол, и в это время почувствовал новый удар чем-то мягким в голову.
— У вас, кажется, и чулок нет, пальцы вылезают. Вот вам Аксиньины.
В недоумении поднял я голову — и увидел дьявольски издевающееся лицо. Но это лицо я видел одну секунду, оно сейчас же сделалось опять просто бесцеремонным.
— И одеваться! Живо! у меня есть к вам серьезное дело.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Здесь в записках Тяпушкина следует большой перерыв; в тетради, из которой я их заимствую, после вышеприведенной сцены следует множество страниц с обозначением глав, названием их, началом в несколько строк, за которыми почти тотчас же следует перерыв: рисунок какой-нибудь рожи, какая-нибудь фраза, вроде: "Нет, вот Тургенев небойсь (?) — об этом не пишет!" Или: "Неужели это только золаизм и натурализм? Нет, это дело и горе общественное!" и т. д. Сколько можно понять из того, что удалось разобрать в этих отрывочных строчках, можно заключить, что Тяпушкин пробыл в старом доме всю весну, лето, и только в глубокую осень весь старый дом — то есть старая дева, юная дева и Тяпушкин — каким-то родом очутились в Петербурге. Наконец идет глава, написанная вся целиком, от первой строки до последней. Эту главу я и помещаю, придерживаясь моей нумерации, хотя в записках Тяпушкина она носит какую-то огромную римскую цифру.)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
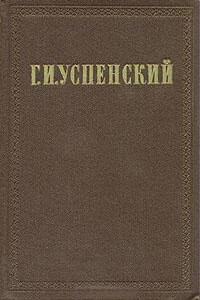
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
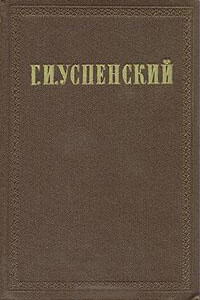
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».