Во имя земли - [37]
— Вам ничего не нужно?
Это дона Фелисидаде. У нее бдительность совы, она стучит в дверь, как судьба — слуга сеньора доктора, менее реального, чем Бог, который совершенно реален в катехизисах. Но я устал, буду спать. Я сыт по горло своими сложностями, которые все же проще, чем я сам. И скажу тебе о самом простом в человеческом существе. Должно быть, пора купаться. Но не знаю, нет, похоже, что-то случилось, смогу ли я… Это Антония… нет, не знаю. Но мне столько еще надо тебе сказать, столько всего ждет, чтобы… Гол, который я должен забить, которого ждет вратарь и тысячи зрителей. Платок, который Тео кладет на ладонь, прежде чем опереться на нее подбородком, Салус, который всего лишь Салустиано без какой-либо революции. Еще раз о Тео, перед тем как меня изувечат. Об исчезновении мира вокруг меня. О Марсии и нашествии в наш дом множества ее детей. А я так хочу побыть с тобой до того…
— Я никогда тебя не любила.
…до того, как с тобой случится этот ужас, так хочу любить тебя. Буду любить божественность твоего тела. Буду, буду.
XV
Моя любовь — какая любовь? Это не ты. Нет, ты, ты. И не ты. В действительности не знаю. В действительности есть то, что существует, то, что называется фактом, то, что представляет собой килограммы и километры. И существует то, что в нас живет, то, что находится внутри нас или мы внутри того — буду любить твое тело, как никогда не любил. Оно такое таинственное, как и наше таинство с ним. Мне столько надо тебе сказать, но сейчас это подождет. Я так любил твое тело и каждый раз любил по-разному, не знаю, было ли с тобой что-нибудь подобное. Мы любим тело, как инструмент любви, как устройство для наслаждения, работающее само по себе. Как экстаз, вызванный пароксизмом страха. Как проводника в достижении невозможного. С яростью, безнадежностью того, кто уже не может больше и не знает зачем. Как невыносимую жажду, нет, не держать тело в руках, потому что держать груди, массу теплого стройного бедра мы можем. Как и с яростью смять, а вот коснуться того неведомого, когда ищешь неведомое, невозможно, и это справедливо. Как собственную затаенную злобу, чтобы выплеснуть развращенную любовь нашей низости, а в результате — отвращение, плевок, навоз, тошнота, омерзение. Или как… не знаю. Тело женщины. Именно, именно, моя дорогая. Твое тело. Есть много возможностей владеть им, сейчас я уже не знаю, как я им владел. Должно быть, по-разному, чтобы узнать его, а узнав, забыть, что является человеческой формой забытья. Да, забыть. Но сейчас мне совершенно необходима… моя нежность. Болезненное обожание, нет, пожалуй, не совсем то… Я буду любить тебя, как никогда не любил. Я любил тебя спешно, с жадностью, с юношеским целомудрием, заполняя любовью огромное пространство, которое должен был заполнить. Потом сладострастно, как говорится в катехизисе. И во исполнение расписания недели. С яростью, унижением, когда ты еще ходила, я даже не знаю, ходила ли ты туда со своим коллегой дураком. И почему мне это неизвестно? Моя дорогая. Ты была горда или кичилась своим телом еще с той самой истории с Бенвиндо. Знать бы, что ты тогда хотела. Соблазнить, дать возможность другому разделить твое восхищение собой или вывести меня из себя, поручить, вынудить преклонить колена. Тихо! Я уже столько сказан. Я отброшу все: горечь, стыд, страдание — все, что не имеет отношения к твоей наготе. Как и радости, которым здесь тоже не место. И детей — им посвящена не вся прошедшая жизнь. Я так хочу любить тебя — как же я буду тебя любить? Не знаю. Буду любить твое неизбывное совершенство.
— Я крещу тебя во имя земли…
Твою красоту, сотворенную Богом. Мятежность твоего еще не тронутого болезнью тела, о, не смейся. Ты всегда была внешне чрезмерно веселой, как будто пришла с уличного гулянья, отсюда же и твой кураж в гимнастике, он был чем-то вроде смеха после услышанного анекдота. Моника, моя дорогая. Радость не смеется, как и печаль не плачет, сколько я тебе о том говорил. Теперь это несомненно. Ты и я одиноки. В замкнутом кругу одной общей судьбы. Наедине. Нет ни Бога, ни ангела — помнишь, на реке? Ты лежишь на постели, я укладываю тебя в постель. И буду воссоздавать тебя в памяти с большой осторожностью, чтобы ничто не спугнуло моего душевного настроя. Моей наивной неловкости. Моего порыва. Я укладываю тебя, смотрю на тебя — где? В городе юности? Возможно, уже в нашем доме. Укладываю в вечность, ведь там твое место, там, там. И теперь хочу любить тебя всю, целиком, ничего не упуская, никакой самой малой малости. Знать бы, почему никто никогда не любит все целиком, всегда какую-то часть, фрагмент чего-нибудь? В действительности всегда привлекательна какая-то часть любви, как привлекательны модные брюки или перо на шляпе. Буду тебя любить, как Бог. Нет, нет, Бог лишен удовольствия, он его не испытывает, ничего, ничего близкого к удовольствию, бедный, он так несчастен. Буду любить тебя, как мужчина всех времен и сегодняшний, с малыми, ведомыми лишь мне ухищрениями. Моя любовь. Моника, моя дорогая.
— Знаешь, Жоан?
Буду любить до того, как пришла смерть, разложение и весь ужас окруживший тебя. Моя Моника навсегда. Ты лежишь обнаженная, я смотрю на тебя. Тело ласковое, нежное. Ты целая и невредимая, но неосязаемая, мой подвижный палец скользит по твоему телу. Ты смеешься. Но улыбка твоя в каждой его частице, улыбка присутствия. Она в лице, в округлой линии твоего живота. В линии бедра. В любой части твоего существа. Головокружительная чистота, живительная девственная свежесть, твоя кожа. Тело твое воздушно, оно утратило плотность, тем не менее способно сделать мир плодородным. Но я хочу еще посмотреть на него, мои глаза еще способны столько увидеть. Твоя всегда непокорная челка сейчас кроткая. Как и волосы, подходящие для твоей мальчишеской подвижности, с чем ты не согласна. И твое лицо, мне приятно видеть его, оно красиво. Что я еще могу добавить? Красиво, мне боязно к нему прикоснуться. Мой палец скользит по твоей эфемерной губе, ты так недоступна моим человеческим возможностям. Легко скользит… не знаю… видеть тебя, до тебя не дотрагиваясь. Чуть-чуть, опасаясь, что ты исчезнешь.

Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.

В автобиографической повести «Утраченное утро жизни» Вержилио Феррейра (1916–1996), в ему одному свойственной манере рассказывает о непростой, подчас опасной жизни семинаристов в католической духовной семинарии, которую он, сын бедняков с северо-востока Португалии, закончил убежденным атеистом.
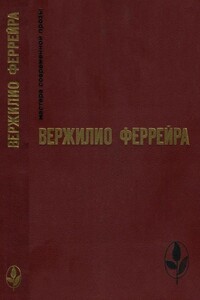
Человеческая личность, осознающая себя в мире и обществе, — центральная тема произведений выдающегося прозаика сегодняшней Португалии. В сборник включены романы «Явление», «Краткая радость», «Знамение — знак» и рассказы. Все эти произведения написаны в разные годы, что позволяет представить творческую эволюцию автора.

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».