Внутренний опыт - [7]
Такое владение внутренними нашими движениями, которого мы со временем можем достичь, хорошо известно: это йога. Но йога дается нам в виде грубых предписаний, слегка приправленных педантизмом и причудливыми изречениями. К тому же йога, когда она становится самоцелью, ведет не дальше, чем какая-нибудь эстетика или здоровый образ жизни. Я же прибегаю к подобным средствам (обнажения) в отчаянии.
Христиане обходились без таких средств, но опыт для них — лишь последний этап долгой аскезы (индусы тоже предаются аскетизму, который придает их опыту недостающий ему драматический характер). Не имея сил и желания прибегать к аскезе, я вынужден связывать оспаривание с освобождением от власти слов, которое и есть господство. И если, в противоположность индусам, я отношусь к этим средствам так, как они того заслуживают, утверждая к тому же, что следует учитывать в них то, что приходится на вдохновение, я не могу не сказать, что нельзя их выдумать заново. Их использование, отягощенное традицией, аналогично той вульгарной культуре, без которой не мог обойтись ни один из самых свободных поэтов (ни один из великих поэтов не миновал школьной парты).
Школьная атмосфера йоги далека от того, что беру на себя я. Средства, о которых идет речь, двойственны; надо найти: слова, которые обычно нас питают, но отвращают от объектов, совокупность которых держит нас на привязи; и объекты, которые заставили бы нас скользнуть от внешнего плана (объективного) к внутреннему миру субъекта.
Вот только один пример скользящего слова. Я говорю “слово”, но это может быть и предложение, содержащее такое слово, однако я ограничусь словом тишина. Словом, которое, как я уже говорил, упраздняет шум, каковым является всякое слово; среди всех слов это — самое извращенное, или самое поэтичное: оно само по себе является залогом собственной смерти.
Тишина дается в болезненной сердечной муке. Когда аромат цветка наполнен реминисценциями, мы неспешно вдыхаем его, проникаясь тревогой, вопрошаем его тайну, которая вот-вот раскроется благодаря его нежности; эта тайна не что иное, как внутреннее присутствие —тихое, неизмеримое, обнаженное, — которое скрывается от нас вниманием, уделенным словам (объектам), которое оно нам возвращает, но лишь тогда, когда мы обращаем его на наипрозрачнейшие из объектов. Но полностью оно возвращает его нам тогда, когда мы сумеем оторвать его даже от этих незаметных объектов: это возможно, если принести слова на алтарь тишины, в которой они рассеются как дым и которая и есть не что иное, как ничто.
Алтарь, который выбрали себе индусы, тоже внутренний: дыхание. Как и скользящее слово, ценность которого в том, что оно пленяет внимание, загодя отданное словам, дыхание пленяет внимание, уделенное жестам, движениям, направленным к объектам: из всех этих движений только дыхание ведет внутрь. Так что индусы, которые дышали тихо — возможно, в тишине — и долго, совсем не напрасно облекали дыхание особой властью, которая даже им оставалась неведомой, и которая все равно открывает тайны сердца.
Тишина — это слово, которое не является словом, дыхание — это объект, который не является объектом...
Я вновь прерываю ход изложения, причем не собираюсь объяснять почему (причин много, они сходны между собой). Ограничусь теперь заметками, в которых должно сказаться самое главное — в формах, отвечающих не столько связности, сколько замыслу.
У индусов другие средства, в моих глазах их единственная ценность в том, что они наглядно показывают: лишь бедные (самые бедные) средства способны произвести разрыв (богатые средства переполнены смыслом, они встают между нами и неизвестностью, словно самостоятельные объекты исканий). Важна единственно напряженность. Однако...
Едва направляем мы внимание к какому-нибудь внутреннему присутствию, как то, что до сих пор скрывалось, приобретает размах если не бури, то — речь идет о движениях медленных — опустошительного разлива. Чувственность возбуждается: достаточно было оторвать ее от ничтожных объектов, на которые она обычно обращена.
Благодаря оторванности от всего, что затрагивает чувства, чувственность эта становится настолько внутренней, что все движения извне — падение булавки или какой-нибудь треск — сопровождаются сильнейшим и далеко идущим отзвуком. .. Индусы замечали эту странность. Вероятно, подобное бывает со зрением, которое обостряется в темноте с расширением зрачка. Темнота здесь — не отсутствие света (или шума), но поглощенность тем, что вовне. В обычной ночи все наше внимание направлено по неизбывному пути слов к миру объектов. Истинная тишина наступает лишь в отсутствие слов; упади тогда булавка, я вздрогну, как от удара молота... В этой идущей изнутри тишине расширяется не зрачок, не какой-нибудь орган, расширяется вся чувственность, сердце.
Различные средства индусов.
Замогильным, звучным, как под сводами собора, голосом они произносят слог ом, который считают священным. Так они доводят себя до какого-то религиозного оцепенения, которое исполнено смятенной и величественной божественности и которое протекает лишь внутри. Но для этого требуется либо наивность — чистота — индуса, либо болезненный вкус европейца к экзотике.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.

«Человеческий ум не только вечная кузница идолов, но и вечная кузница страхов» – говорил Жан Кальвин. В глубине нашего страха – страх фундаментальный, ужасное Ничто по Хайдеггеру. Чем шире пустота вокруг нас, тем больше вызываемый ею ужас, и нужно немалое усилие, чтобы понять природу этого ужаса. В книге, которая предлагается вашему вниманию, дается исторический очерк страхов, приведенный Ж. Делюмо, и философское осмысление этой темы Ж. Батаем, М. Хайдеггером, а также С. Кьеркегором.

Без малого 20 лет Диана Кочубей де Богарнэ (1918–1989), дочь князя Евгения Кочубея, была спутницей Жоржа Батая. Она опубликовала лишь одну книгу «Ангелы с плетками» (1955). В этом «порочном» романе, который вышел в знаменитом издательстве Olympia Press и был запрещен цензурой, слышны отголоски текстов Батая. Июнь 1866 года. Юная Виктория приветствует Кеннета и Анджелу — родственников, которые возвращаются в Англию после долгого пребывания в Индии. Никто в усадьбе не подозревает, что новые друзья, которых девочка боготворит, решили открыть ей тайны любовных наслаждений.
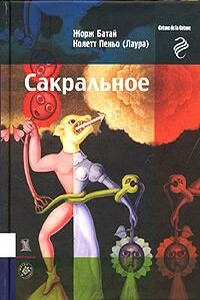
Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.
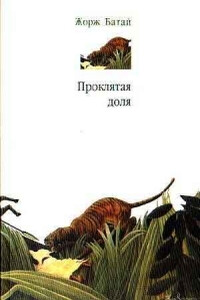
Три тома La part maudite Жоржа Батая (собственно Проклятая доля, История эротизма и Суверенность) посвящены анализу того, что он обозначает как "парадокс полезности": если быть полезным значит служить некой высшей цели, то лишь бесполезное может выступать здесь в качестве самого высокого, как окончательная цель полезности. Исследование, составившее первый том трилогии - единственный опубликованный еще при жизни Батая (1949), - подходит к разрешению этого вопроса с экономической точки зрения, а именно показывая, что не ограничения нужды, недостатка, но как раз наоборот - задачи "роскоши", бесконечной растраты являются для человечества тем.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.
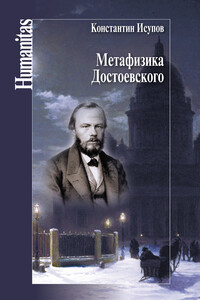
В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».
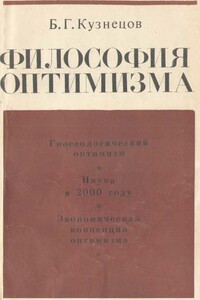
Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.
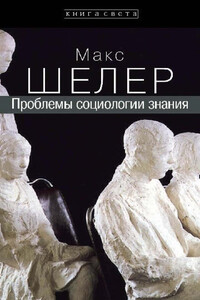
Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.
