Внутренний опыт - [61]
Поэтический образ, хотя и ведет от известного к неизвестному, привязан все же к известному, которое и дает ему воплотиться, образ, хотя и разрывает в клочья мир известного, разрывая сердце самой жизни, в этом мире все же себя удерживает. Откуда следует, что почти вся поэзия есть не что иное, как падшая поэзия, услада образами, хотя и вырванными из лап рабского мира (поэтичный значит благородный, торжественный), но спасенными от внутреннего разрушения, коим оборачивается доступ к неизвестности. Самые что ни на есть разрушенные образы принадлежат миру обладания. Горестно, конечно, владеть руинами, но это не значит, что ты ничем не владеешь: что одна рука отдает, другая забирает.
Даже до ленивых умов дошло, что Рембо, оставив поэзию, отринул прочь весь мир возможного, в котором она процветает, — это было окончательное, бесповоротное, безысходное жертвоприношение. Ну а то, что он кончил выматывающей душу абсурдностью (африканская эпопея), не имело в их глазах решающего значения (за все, понятно, надо платить). Но умы эти не могли следовать Рембо: они только и делали, что им восхищались, ведь Рембо, отринув от себя возможное, упразднил его для других. В силу того, что они восхищались Рембо лишь из любви к поэзии, одни из них продолжали поэзией наслаждаться, а то и писали, правда, червь сомнения уже начал свою работу; другим пришелся по душе хаос непоследовательности, где им было до того вольготно, что они не останавливались ни перед каким утверждением. Когда же, как часто бывает, “те и другие” собрались — в немалом числе экземпляров и всякий раз с каким-то отличием — в одной личности, они сложили определенный тип существования. Червь сомнения сразу же дал о себе знать, правда, уже не в плане искусства, но в плане социального действия, в какой-то униженности, даже детскости. В мире литературы — или живописи — разработали несколько обязательных правил непристойности и благополучно перешли к такой жизни, в которой излишества (злоупотребления) нельзя было отличить от сдержанности лучших из лучших. Я не против, только вот от. прямоты Рембо не осталось почти и духу.
Смысл заветной дали не ускользает даже от тех, кто определяет поэзию “землею сокровищ”. Бретон (во “Втором манифесте”) писал: “Ясно, что сюрреализму нет никакого дела до того, что производится под именем искусства, даже антиискусства, философии или антифилософии, словом, всего, что не ставит себе целью уничтожение бытия в одном-единственном, ослепительном и сокровенном бриллианте, который будет душой и льда, и огня”. С самых первых слов “уничтожение” пошло как-то слишком “красиво”, столько было разговоров, а то и просто оспаривания всего, что позволило бы достичь этой цели.
Я так пространно говорил о Прусте, потому что его внутренний опыт, быть может, чуть ограниченный (зато столь притягательный во всей своей фривольности, счастливой беззаботности), был совершенно свободен от пут догматизма. Я бы добавил и дружбу, манеру забывать, страдать, некое чувство державного сообщничества. И еще: поэтический ток его произведения, невзирая ни на какие помехи, выходит на путь, который ведет поэзию к “крайности” (но об этом дальше).
Из всех видов жертвоприношения поэзия выделяется тем, что нам дано поддерживать, усиливать ее горение. Но ощутимее, нежели в других жертвоприношениях, и нищета поэзии (если принять во внимание то, что приходится в ней на личность, на тщеславие). Главное же в том, что одна уже жажда поэзии делает нашу нищету нестерпимой: уверившись в бессилии, до коего нас довело, даровав настоящую свободу, жертвование всеми на свете объектами, мы зачастую испытываем потребность пойти еще дальше, дойти до жертвоприношения, в котором в жертву приносится субъект. Быть может, ничего страшного тут нет, но если субъект действительно гибнет, он сбрасывает ярмо жадности, его жизнь освобождается от гнета скупости. Жертва, поэт, имея своим долгом населять руинами неуловимый мир слов, быстро устает, без конца пополняя литературную сокровищницу. Он приговорен: исчезнет у него тяга к сокровищнице, и он перестанет быть поэтом. Но он не может закрыть глаза на некое излишество, на злоупотребление личной гениальностью (слава). Обнаружив в себе крупицу гениальности, человек воображает, что она всегда останется за “ним”, как всякая крупица земли остается за крестьянином. Наши предки, что были нас скромнее, сознавали, что есть в этих урожаях, в этих стадах — которые им надо было использовать, чтобы жить, — нечто такое, что нельзя было использовать без зазрения совести (что видно всякому в человеке или в ребенке), и в иные души стало прокрадываться отвращение к “использованию” поэтического гения. Когда это отвращение стало явным, все покрылось мраком — надо выблевать из себя это зло, его надо “искупить”.
Очень хотелось бы, дай только волю, зло упразднить. Но само желание упразднить вылилось (гениальность, как ни крути, так и останется личностной) лишь в выражение желания. Чему свидетельство эти фразы, сокровенная звучность которых перекрывает всякую возможность реальной действенности. “Все люди, — сказал Блейк, — похожи друг на друга своей поэтической гениальностью”. А Лотреамон добавил: “Поэзия — это дело рук всех людей, а не одиночек”. Мне очень хотелось бы посмотреть, насколько далеко можно зайти, пытаясь на самом деле осуществить такие помыслы: разве поэзия не дело рук одиночек, которых посещает гений?

«Человеческий ум не только вечная кузница идолов, но и вечная кузница страхов» – говорил Жан Кальвин. В глубине нашего страха – страх фундаментальный, ужасное Ничто по Хайдеггеру. Чем шире пустота вокруг нас, тем больше вызываемый ею ужас, и нужно немалое усилие, чтобы понять природу этого ужаса. В книге, которая предлагается вашему вниманию, дается исторический очерк страхов, приведенный Ж. Делюмо, и философское осмысление этой темы Ж. Батаем, М. Хайдеггером, а также С. Кьеркегором.

«Процесс Жиля де Рэ» — исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962.) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жиля де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.

Без малого 20 лет Диана Кочубей де Богарнэ (1918–1989), дочь князя Евгения Кочубея, была спутницей Жоржа Батая. Она опубликовала лишь одну книгу «Ангелы с плетками» (1955). В этом «порочном» романе, который вышел в знаменитом издательстве Olympia Press и был запрещен цензурой, слышны отголоски текстов Батая. Июнь 1866 года. Юная Виктория приветствует Кеннета и Анджелу — родственников, которые возвращаются в Англию после долгого пребывания в Индии. Никто в усадьбе не подозревает, что новые друзья, которых девочка боготворит, решили открыть ей тайны любовных наслаждений.
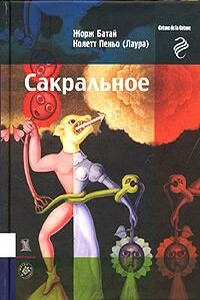
Лаура (Колетт Пеньо, 1903-1938) - одна из самых ярких нонконформисток французской литературы XX столетия. Она была сексуальной рабыней берлинского садиста, любовницей лидера французских коммунистов Бориса Суварина и писателя Бориса Пильняка, с которым познакомилась, отправившись изучать коммунизм в СССР. Сблизившись с философом Жоржем Батаем, Лаура стала соучастницей необыкновенной религиозно-чувственной мистерии, сравнимой с той "божественной комедией", что разыгрывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной от нее тем, что святость достигалась не умерщвлением плоти, а отчаянным низвержением в бездны сладострастия.
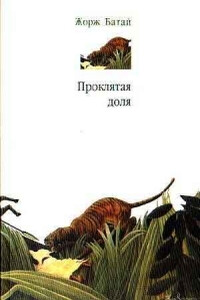
Три тома La part maudite Жоржа Батая (собственно Проклятая доля, История эротизма и Суверенность) посвящены анализу того, что он обозначает как "парадокс полезности": если быть полезным значит служить некой высшей цели, то лишь бесполезное может выступать здесь в качестве самого высокого, как окончательная цель полезности. Исследование, составившее первый том трилогии - единственный опубликованный еще при жизни Батая (1949), - подходит к разрешению этого вопроса с экономической точки зрения, а именно показывая, что не ограничения нужды, недостатка, но как раз наоборот - задачи "роскоши", бесконечной растраты являются для человечества тем.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.