Владычица небес - [85]
— Конан! — сказал он, загадочно двигая бровями. — Не хочешь ли ты… Гм-м… Не хочешь ли ты отведать…
— Чего? — сумрачно буркнул варвар, все еще занятый мысленными поисками Кармашана.
— Жареного кабанчика! — заорал Повелитель Змей в восторге от себя самого. Наверное, впервые в жизни он жарил своего собственного, не украденного, а подаренного ему и его друзьям кабанчика. Он сам потрошил его, обмазывал травами, насаживал на вертел… Он ожидал бурной реакции со стороны Конана на такое приглашение к трапезе и был уверен, что заслужил ее.
— Кабанчика? — вяло переспросил киммериец. — Что ж, можно попробовать…
Глава пятая. Путешествие продолжается
Последнее время она все чаще вспоминала Массимо — молодого, старого, все равно. Это казалось ей странным. Да, нить его судьбы пересекалась с нею дважды, но сие означало лишь встречу, которая уже произошла много лет назад, и встречу, которая произойдет в самом близком будущем. Почему же память хранит его образ, воскрешает его с таким удивительным постоянством? Почему же сердце при этом всякий раз сладостно замирает и глубокий вздох рождается в груди?
Конечно, Маринелла знала ответ. Но если это действительно было то, что она думала, а именно любовь (это слово она мысленно произнесла на всех языках), тогда она может считать себя человеком с полным на то основанием. Вопреки ожиданию, эта мысль не испугала и не смутила ее. Пусть высшие сотворили ее богиней; есть в огромном мире кое-что мудрее и могущественнее их, ибо не они его создатели, а, наоборот, оно создало их. Сколько знала Вечная Дева, оно называется жизнь и заключает в себе все… И заключает в себе все, При рождении она сразу уловила ритм жизни и слилась душою с ней. Теперь не высшие ее судят, а эта самая жизнь. Если ей было угодно, чтобы Маринелла стала человеком, то никто не может и не смеет воспротивиться ее желанию.
Так она уговаривала себя, с каждой новой мыслью чувствуя, сколь сомнителен ее смелый вывод. Истина требовала иного оправдания. Если таковой вообще имелся, следовало его найти. Он нашелся. Всего один, зато такой весомый, такой убедительный и, по сути, неоспоримый, что Маринелла сразу приуныла. Да, человеком может считаться лишь тот, кто от человека человеком рожден, и не иначе. Но, с другой стороны, — утешала она себя — так ли уж надобно ей быть обыкновенной смертной? Кто мешает ей, богине, любить?
Маринелла снова повеселела. Еще миг, и мысль ее направилась бы по тому же пути дальше, однако нечто вроде предчувствия не пустило ее туда. В самом деле потом она подумала бы, что Массимо уже стар, а она еще юна; что будущего для них двоих нет — никакого; что после второй встречи их жизни разойдутся уже навек; его — для того, чтоб вскоре угаснуть, ее — для того, чтоб продолжать намеченный высшими изначально труд. Обо всем этом Маринелла не стала размышлять.
Ветер колыхнул ветви деревьев, и проскользнувший меж листьев луч заходящего солнца ласково коснулся ее ресниц. Опять пора в дорогу. Она встала, положила веретено в суму, потом суму закинула за плечо и пошла. Земля, в лесу и без того всегда прохладная, перед ночью совсем остыла, но босые ступни Маринеллы ощущали ее внутреннее тепло, кое, словно руда, хранилось под верхним слоем. Через несколько шагов она услышала пульс земли; он бился вровень с ее собственным, а ее собственный — тут она восстановила одну из своих предыдущих мыслей — с пульсом самой жизни. Это означало, что жизнь, земля и ока, Богиня Судеб, едины. Странно? Может быть. Но не более, чем образ Массимо в ее памяти.
В задумчивости она не заметила камня, лежащего поперек тропы. Пальцы правой ноги ударились об него, и резкая боль пронзила все тело, мигом добравшись до сердца. Вечная Дева остановилась. Что это? Разве может она, существо отнюдь не смертное, чувствовать боль? А разве может она плакать? А любить? Не найдя сразу ответа на эти вопросы, Маринелла двинулась дальше. Медленно, медленно темнело вокруг. Знает ли кто-нибудь в мире сем, которая по счету ночь грядет нынче? Она — не знала. И Массимо не знал. Вот только надо ли им было об этом знать?..
Утром островитяне вышли проводить гостей. Здесь, при ярком солнечном свете, Конан впервые разглядел Невиду Гуратти. Парень был совсем плох. Не только лицо, но и все тело изъедено проказой, а левая сторона к тому же парализована — передвигался он с помощью толстой суковатой палки, и то с огромным трудом. Только голос еще остался при нем: сильный хрипловатый бас, напоминавший горное эхо от громовых раскатов.
— Хей, Текко! Нахор! Аматино! — пророкотал он, тащась впереди всех. — Там, у восточного мыса, лодка… Волоките ее сюда!
— Правильно говоришь, Невида, — одобрил старик Льяно. — Нам она уж никак не пригодится, а им нужна как воздух и еда.
— Чистая правда, клянусь Кромом! — после вчерашней сытной трапезы и доброго сна ночь напролет Конан заметно повеселел. Он уже без содрогания смотрел на уродство прокаженных — вернее, он перестал замечать его. Они были люди, просто люди, так чего ж на них таращиться и рыдать от жалости? Жизнь — она и есть жизнь. Философия варвара состояла в том, чтобы не навязывать своих чувств и дум никому. Прошлым вечером он едва не изменил самому себе. Светлый Митра свидетель: нынче он пожалел бы о том.

Приключения Конана продолжаются.«Ищем, находим, перепродаем и опять крадем серебряную пчелку. Шадизар опять стоит на ушах…»(А. Мартьянов)
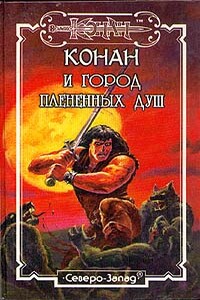
Конан идёт из Кутхемеса в Замбулу. Время действия — несколько недель.«Полная несуразность. Даже если не обращать внимание на стиль — сюжет тот ещё: всемогущий колдун, чуть ли не бог, раз сумел из ничего (sic!) создать целый город на самообеспечении, вдруг загорелся желанием заполучить способность шмалить молниями Митры (на фига ему какие-то молнии?), причем использовать таковые можно до первого употребления их во зло (так сказал Мэнсон, их придумавший). При всём при том в тексте говорится, что колдун это кто угодно, только не сумасшедший».К. Фаустовский.
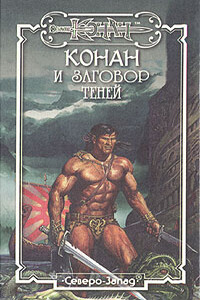
«Если кто-то там в чем-то поклялся, а затем отдал концы, то почему Вечному Герою обязательно нужно в это влезть, я вас спрашиваю?»(А. Мартьянов)
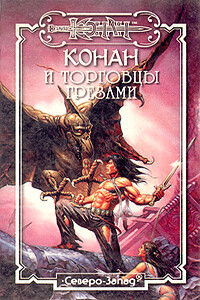
Старик, приютивший Конана, рассказывает, что много лет назад у него похитили дочь, и, по предсказанию, она должна скоро умереть. И в тот же день умрет Майло, приемный сын старика. Вместе с Майло Конан отправляется на остров Железных Идолов, где томится в заточении Адвента.«Место действия — Коринфия и Остров Железных Идолов на Вилайете. Крайне маловразумительная история о злобном колдуне, а также неправильном оборотне и его украденной сестренке».(А. Мартьянов)

В Советском Союзе их назвали Защитниками.Секретное военное подразделение. Элитная команда из четверых бойцов со сверхспособностями.Арсус – превращается в медведя и обладает нечеловеческой силой.Лер – подчиняет своей воле камни и землю.Ксения – невидимая в воде, невосприимчивая к холоду, может жить без воздуха.Хан – быстрый как ураган, владеет любым холодным оружием.Они могли стать идеальным оружием. Если бы не были людьми.За 50 лет до событий фильма.

Дебютная фантастическая повесть «Голос Разума» – остросюжетное произведение о сущности людей, о борьбе человека с самим собой в условиях крушения привычного нам мира. Динамичный постапокалиптический сюжет пронизан незримыми нитями глубоких философских вопросов: добро и зло, дружба и предательство, смелость и малодушие. Какой выбор сделают герои? Об этом вы узнаете на страницах этой книги.

Владимир Пушкарев и Константин Уткин – два друга не разлей вода, любители опасностей и адреналиновых встрясок. И работа у них – под стать горячим натурам: экстремальные пожарные. Тушение аварийных реакторов, спасение людей из аномальных зон в секретных институтах…Казалось бы, человека на такой работе уже ничем не прошибешь. Но однажды после взрыва на Троицком термоядерном стеллараторе Владимир и Константин увидели нечто такое, что полностью перевернуло их представления о реальности. Такое, что заставило их немедленно уйти из пожарных открыло дорогу к звездам, привело в самую секретную организацию на Земле – Космодесант…

Жизнь в Городе проходит размеренно и ровно, каждый последующий день напоминает предыдущий. Порядок держится на законах, главный из которых гласит: «Пересечение границы строго запрещено». За соблюдением законов неотступно следит охрана. Впрочем, вряд ли кто-то захочет рискнуть собственной жизнью: уже с материнским молоком впитывается в ребёнка знание об опасности леса. Но Сель, шестнадцатилетняя девушка, которая больше всего на свете не любит страх, раз за разом нарушает запреты и убегает из дома. Догадывается ли она, к чему это может привести?

Рыцарь из средних веков случайно оказался в звездолете. Он не понимает, что живет в фантастическом мире. Рыцарь по-прежнему считает, что находится на Земле, живет в своем поместье, живет в своем замке, вместе со своей семьей и его подданные. Рыцарь уверен, что находится недалеко от родного замка и надо просто прорубить мечом дьявольские козни. Он пытается вернуться домой, но не может, так как был заключен в дьявольском замке. Рыцарь, исследует дьявольский замок, пытается найти волшебный выход из тюрьмы. Пока рыцарь вынужден жить по правилам волшебного замка.

Горячая весна 1980 года. Каковы шансы у Острова Крым выстоять против советской военной машины?Чьим праздником будет День Победы?И какую цену победитель заплатит?Читайте вторую книгу дилогии Олега Чигиринского «Госпожа победа»!
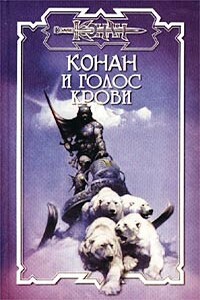
В новом томе `Саги о Конане` читателя ждет завершающая часть тетралогии Олафа Бьорна Локнита `Трон Дракона`.На первый взгляд кажется, будто киммериец и его друзья потерпели сокрушительное поражение от сил Мрака... Однако отважные герои никогда не теряют надежды. Даже если сами боги отвернулись от них, люди сумеют сами решить свою судьбу.
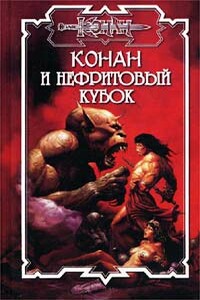
Славный город Шадизар. И одно из самых любимых развлечений жителей города – это скачки. При очередном состязании лучшая лошадь забега неожиданно падает, в результате чего погибает наездник.И только Конан увидел в этом не случайность, а злой умысел…
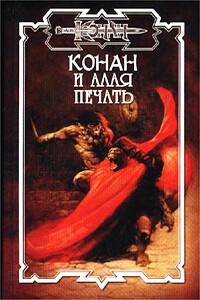
Один из популярнейших авторов «Саги о Конане» Олаф Локнит представляет читателям свой новый сериал-тетралогию «Трон Дракона». Вас ожидает увлекательное путешествие в мир киммерийца, вместе с его неразлучными спутниками – Мораддином, Велланом, Тотлантом, Рингой.

Покинув Шадизар, Конан нанимается охранником в караван к богатому вельможе. По пути их ждёт много опасностей, но, благополучно прибыв в дом вельможи, Конан остается там на некоторое время. И, оказывается втянут в нешуточные интриги творящиеся здесь. Но благородный варвар не позволит использовать себя в грязных намерениях.

