Византия и Русь: два типа духовности - [9]
Таково общее правило, и о нем больше говорить не нужно. Если чуть вдуматься, никаких недоумений оно не вызывает. Но индивидуальный случай не сводим к общему правилу. Совершенно естественно, что одни представители христианской святости, и как реальные личности, и как персонажи повествовательной традиции — для нужд нашего рассуждения различие между тем и другим не важно, — воплощают сильнее один полюс антиномии, а другие, соответственно, другой. Совсем просто, по-чело- вечески на глаз видно, как в одном случае преобладает суровость, в другом — ласковость. К одним святым страшно подступиться, к другим — не страшно.
Для Западной Европы мы можем со всеми необходимыми оговорками констатировать, что смягчение облика святости идет параллельно убыванию варварства и приращению цивилизованности. Само собой понятно, что в эпоху переселения народов самому человеколюбивому святому вроде Северина из Норика (V век) именно ради его человеколюбивых целей необходимо было нагонять страху на варварских главарей и для этого походить на кудесника, только более эффективного, более грозного, чем языческие жрецы и колдуны. Но прогресс социальной жизни идет своим чередом: рыцарь цивилизованнее своего предка- варвара, а человек позднесредневековой культуры, уже не только замковой, но и городской, — еще цивилизованнее. Лишь на этом, третьем этапе возможна фигура Франциска Ассизского, знаменующая изменение очень глубокого свойства в эмоциональном климате западной духовности. Как бы ни преувеличивала это изменение либеральная историография на исходе прошлого века, она его не выдумала. В XIII веке еще не существовало слова «аджорнаменто» [16], но феномен аджорнаменто очень четко выявил свои черты, с тех пор история католической церкви идет под знаком периодичности совершенно сознательных и централизованно осуществляемых актов усвоения новых форм цивилизации. Еще продолжаются крестовые походы, но Франциск, не говоря против них ни слова, подает будущим, пока еще не близким временам пример миссионерского путешествия в Египет — с султаном лучше поговорить, чем воевать. Если верить легенде, он разговаривал также с волком, причем успешнее, нежели с султаном. Но поведение Франциска, сколько бы оно ни представало перед нами в романтической дымке юродствующей непрактичности, есть не просто плод его чисто личной доброты, но находится в согласии с движением цивилизации; по сути дела, оно было куда практичнее, чем крестовые походы. Будущее было не за крестоносцами, а за миссионерами. Филиппо Нери (1515–1595) действовал в Риме во время очередной волны аджорнаменто; его попытки обратить на пользу церкви неискоренимую склонность итальянцев на лету подхватывать полюбившуюся мелодию дали облик и название музыкальному жанру — оратории; римское простонародье прозвало его «добряк Пеппо», и он удостоился похвалы от Гёте, не любившего католических духовных лиц, но имевшего вкус к итальянской жизни. Разумеется, отнюдь не все западные святые последовавших столетий были «добряками» в стиле Нери — какое там; но все жесткое в самых неумолимых ревнителях контрреформации было не то чтобы смягчено — с русской точки зрения (ярко выраженной у Достоевского) это может восприниматься совершенно наоборот! — а «темперировано» цивилизованностью. «Мягко по образу действия, твердо по существу действия» (leniter in modo, fortiter in actu) — гласит одна из максим иезуитского ордена. Кто захочет, сможет, конечно, в насмешку перевести ее на русский — мягко стелют, да жестко спать; но это не единственная русская ассоциация, которая здесь приходит на ум. Когда известный Владимир Печерин, русский эмигрант гер- ценовской генерации, вздумал пойти в послушники к редемпто- ристам, то есть в конгрегацию, родственную иезуитам, его чрезвычайно поразила возведенная в принцип вежливость старших к младшим, начальников к подчиненным.
Здесь стоит задуматься. Почему, собственно, редемпторист- ская вежливость была для него столь неожиданной? Надо полагать, по контрасту с тем, что он знал о русских монашеских нравах. Его знания, несомненно, были весьма поверхностными; с другой стороны, монастыри, подавшие повод к таким представлениям, могли быть просто плохими. Но существа дела ни первое ни второе не затрагивает. За обличительным «имиджем» длинноволосого и длиннобородого, вероятно, неопрятного — не комильфо — православного монаха, который говорит послушнику «ты» и немилосердно им помыкает, стоит слишком многое. Восточный тип аскетического воспитания, широко известный в православии, но также за пределами христианства, например в суфизме или дзэн-буддизме, применяет озадачивающие оскорбления и утеснения не только как способ испытать новичка, но и как своеобразную шоковую терапию. Симеон Новый Богослов, один из самых тонких мистиков Византии, принуждал своего любимого ученика на глазах у чужих людей вкушать нарочито скоромную пищу, после чего корил его при тех же свидетелях за чревоугодие; это не просто тривиальная выработка смирения, но нечто отчасти похожее на дзэновские коаны — неразрешимые загадки, загоняющие в тупик старое сознание и помогающие родиться новому. Но дело даже не только в том, что плохой монах может быть груб, а великий аскет может быть суров и даже прибегать к мучительным для пациента приемам глубинно- психологического зондирования. И там, где ничего подобного нет, а есть, напротив, изливающаяся на всех без разбора, «на праведных и неправедных», как сказано о дожде небесном в Нагорной проповеди, теплота ласки — как у преподобного Серафима, обращавшегося к каждому с приветствием: «Радость моя!» — тоже нет ни малейшей возможности заговорить о вежливости. Для описания такой теплоты слово «вежливость» — слишком холодное. Слова этого вообще не представишь себе ни в одном русском духовном трактате — в то время как еще Франциск Ассизский рекомендовал своим ученикам чуть куртуазно окрашенную учтивость (и сам, как известно, практиковал ее даже с бессловесными тварями Божьими), между тем как соименный ему Франциск Сальский (1567–1622) специально посвятил вопросам вежливости и обходительности целую пространную главу своего классического «Введения в духовную жизнь», породившего в католической пастырской литературе большую традицию. Сказанное никак не означает, что католическая духовность непременно связана с деликатными манерами и внешним блеском (совсем недавно, в середине нашего века, о противоположном напомнил итальянский священник падре Пио, имевший у народа прочную репутацию чудотворца и прозорливца, — уж он-то говорил каждому приходящему «ты» и держался без оглядки на светские приличия); но принципиально важно, что вопрос о соотношении между святостью и цивилизованной социальностью был поставлен, и не по ходу дела, а как проблема нравственной теологии, на теоретическом уровне.
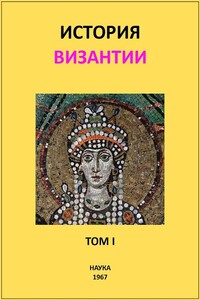
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.
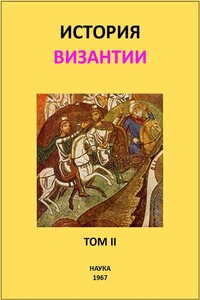
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.