Витрины великого эксперимента - [12]
Однако говоря об устойчивых факторах, недостаточно рассматривать лишь стратегии правителей или государства в целом. Во-первых, большевики являлись не только политическими властителями в рамках нового режима, но еще и наследниками радикальной интеллигенции; во-вторых, далеко не каждый участник советских культурных обменов с другими странами был большевиком. Возникновение интеллигенции и подъем национализма в XIX веке сделали процесс артикуляции отношения России к Европе менее зависимым от монарха, двора, государства и дворянства. Как заметила Катриона Келли, масштабный импорт «иностранных» ценностей и стандартов поведения в послепетровскую Россию означал, что «три довольно обособленных понятия — цивилизация, модернизация и вестернизация — оказались переплетены как для иностранцев, так и для самих русских»>{24}. Все больше и больше русская имажинария западных стран формировалась образованной публикой, высокой и народной культурой и «обществом» — т.е. тем, что уже давно существовало к тому времени, когда советское государство принялось осуществлять свою программу радикального огосударствления отношений с внешним миром. Ни один русский мыслитель или общественное движение Новейшего времени не могли избежать этого вопроса — «идея Европы» стала основной референцией, через которую определялась «идея России»>{25}. Некоторые парадоксы такого наследия девятнадцатого века дают ключи к изучению подоплеки идеологических деклараций века двадцатого.
Глядя на Запад
Главным из этих парадоксов был тот, что, с одной стороны, импортированные идеи использовались для создания представлений об уникальности России, а с другой — именно самые пылкие западники активно способствовали распространению суждений об уникальном русском пути. Среди наиболее космополитически настроенных русских в XVIII веке были масоны, проникнутые универсалистским духом Просвещения, но, несмотря на это, сыгравшие важную роль в первоначальном формулировании теорий русской духовной исключительности>{26}. Александр Герцен, как известно, сравнивал славянофилов и западников с Янусом или двуглавым орлом: сердце у них было общим. Классический раскол между славянофилами и западниками XIX столетия не поддается простому описанию. Славянофилы, желавшие вернуться в допетровскую консервативную утопию или, скорее, объединить ее с европейскими стихиями ради нового русского синтеза, выступали против западников, используя при этом заимствованный германский романтический национализм и французскую культуру эпохи Реставрации>{27}. Схожим образом самый известный русский западник Герцен был «русским европейцем», мечтавшим о «новой Европе». После 1848 года он встал в оппозицию к буржуазному Западу с его пороками и превратился в первого проповедника особого русского социализма, основанного на русской общине>{28}.
Почти вся дискуссия в русской мысли XIX века относительно русской души и национального характера была по своей природе оборонительной, поскольку представляла собой ответ на европейские идеи о русской отсталости. Однако эта дискуссия служила также попыткой утвердить элементы русской национальной исключительности, и к концу XIX века целый ряд политических, философских и эстетических течений открыто продвигали идею о незападной, «азиатской» природе русской идентичности, превращая то, что для европейцев являлось символом отсталости, в преимущество. Даже вестернизирующая тенденция социал-демократии также в некоторых отношениях была наследницей народничества, и в конечном итоге именно Ленин и Троцкий призывали проскочить буржуазную стадию и построить новую и беспримерную в истории «диктатуру пролетариата»>{29}. На таком историческом фоне вестернизирующее и антибуржуазное измерения большевистской идеологии предстают в виде изменчивой амальгамы.
Лия Гринфельд (Greenfeld) превосходно обосновала формирование русской национальной идентичности в период империи как результат стремления избежать проклятия неполноценности. Рессентимент, экзистенциальная зависть к Западу, с точки зрения Гринфельд, стал важнейшим фактором в кристаллизации русского национального самосознания:
Русские смотрели на самих себя через очки, сделанные на Западе, — они мыслили, глядя на мир западными глазами, — и его одобрение было sine qua поп для их чувства собственного достоинства. Запад всегда был выше; они были уверены, что он смотрит на них сверху вниз. Как могли русские преодолеть это препятствие?>{30}
В определенном смысле данная аргументация может быть расширена: оценки и сравнения с Западом становились важнейшими не только для тех, кто формулировал принципы национальной идентичности, но и для всех течений, порожденных интеллигенцией, — включая и такие, которые, подобно социал-демократии, определяли себя как интернационалистские и рассматривали мир с классовых, а не с национальных позиций>{31}. Более того, вознесение в СССР культуры и «культурности» практически до статуса секулярной религии (и материал этой книги показывает, что иностранные гости, обычно описывавшиеся как рабы буржуазной роскоши, ранжировались по своему не только политическому, но и культурному уровню) было неким секулярным аналогом русской души. Иными словами, православная или русская духовность заменялась сочетанием социалистических идейных и культурных ценностей. Задачи, стоявшие перед новым советским человеком, были куда внушительнее, чем, по словам Максима Горького, произнесенным в преддверии сталинской «революции», «внешний блеск» Запада, видимость процветания и технологического прогресса

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.
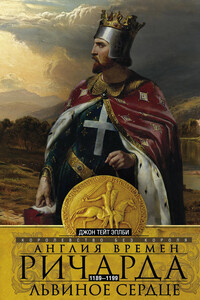
Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.
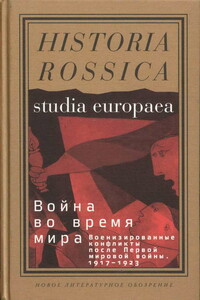
Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.

В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.
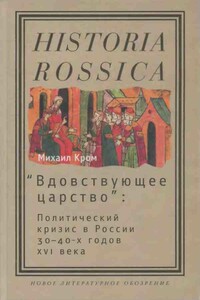
Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.
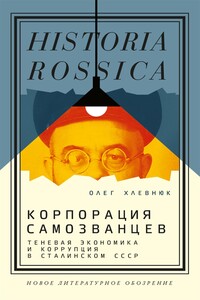
В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.