Вилла на Энсе (Аромат резеды) - [4]
Композитору Шуману, когда он начал сходить с ума, все слышалась нота «ля». Он подбегал к роялю и с остервенением бил по клавишам: «ля, ля, ля». От этого ему становилось легче.
Герт, заслышав знакомый, чуть приторный запах, бросился в поисках спасения к клумбе, где росли бледно-желтые цветы, и с ожесточением вытоптал их.
Но тотчас ветер опять донес до него аромат резеды.
Это подействовало удивительным образом. Открытие было таким важным, что даже оттянуло наступление припадка.
Вот, стало быть, что! Резеды в саду уже нет, и все-таки в воздухе пахнет резедой!..
Да, это, конечно, и был тот кончик нити, за который надо держаться.
Герт помнил об этом все время, пока длился припадок. На этой мысли он сосредоточил все свои помыслы, всю свою волю. Нигде в саду резеды не было, а всё-таки пахло резедой!..
Теперь преследовавший его страх как бы материализовался. Он имел запах. По запаху можно было догадаться о его приближении, о его появлении в саду. Он не мог уже подкрасться сзади и захватить Герта врасплох.
После каждого припадка заключенный упрямо возобновлял свои наблюдения.
Никак не удавалось обнаружить закономерность в чередовании приступов болезни. Сразу после того как он вытоптал цветы на клумбе, припадок обрушился на него. Потом наступил перерыв, будто устала хлеставшая рука.
Зато вечером припадок повторился с новой силой. Герт был истерзан, оглушен, выдохся. В камеру молчаливые надзиратели притащили его на руках.
Чертовы наци! Проклятые палачи! В Моабите они сажали Герта в карцер, в нору, такую тесную, что нельзя было разогнуться. В концлагере выволакивали на мороз и поливали из брандспойтов. Теперь решили применить новую чудовищную пытку — истязали его мозг!
Но зачем это им? Какую они преследуют цель?
Больше всего тревожило Герта то, что он может сделаться слепым орудием в руках гитлеровцев. Помимо воли. Даже не подозревая об этом.
Сейчас он чувствовал себя, как человек в потемках. Он заблудился в этом проклятом саду, бродил в нем ощупью, пытаясь найти выход, безуспешно стараясь понять, что же с ним, Гертом, происходит…
Усилием воли Герт заставил себя забыть о сегодняшнем дне, круто повернул мысли в ином направлении… Москва! Москва!.. Красная площадь! Мостовая, расчерченная прямыми разноцветными линиями… Ну же, память, выручай, спасай!..
Впереди заколыхались спины, головы — волны демонстрантов, одна колонна за другой…
Чтобы выжить, не сдаться, не потерять самообладания, Герт вспоминал…
Колонна химического завода, гостем которого он был, остановилась на несколько минут у высокого красного здания. (Герту сказали, что это Исторический музей.) Дождь, зарядивший с утра, усилился, но никто из демонстрантов не обращал на него внимания.
Кто-то впереди махнул рукой. Портреты вождей закачались над головами. «Пошли, пошли!» — радостно закричали рядом.
Колонна двинулась, но вдруг замедлила движение. Дорогу ей перебежал малыш лет шести или семи в матросской бескозырке и кургузом пальто. Мать догнала его и подхватила на руки. Но тот все порывался куда-то. Выяснилось, что за головами демонстрантов ему не видно Сталина на трибуне.
Герт очень любил детей. (Брак с Мартой был, к сожалению, бездетным.) Осторожно подбирая трудные русские слова, он попросил разрешения у молодой женщины понести ее сына, чтобы тому был виден мавзолей и товарищ Сталин на трибуне мавзолея.
Женщина вопросительно вскинула на него глаза. Лицо ее было некрасивое, в оспинках, но такое счастливое, что казалось красивым.
— Это наш гость, коммунист из Рура, — отрекомендовали ей Герта. А кто-то добродушно сказал: — Да не бойся ты, товарищ Васильева! Не уронит он сокровище твое…
— Не уроню, нет, — серьезно подтвердил Герт и, бережно приняв малыша из рук матери, посадил к себе на плечо.
Так он и пронес его через всю Красную площадь, мимо Кремля, мимо мавзолея, мимо товарища Сталина.
Они успели на ходу обменяться впечатлениями о демонстрации.
— Я вижу Сталина в первый раз, — объявил Хлебушко-Брётхен, подпрыгивая на плече Герта.
— Я тоже, — признался Герт.
— Ты? — удивился мальчик. — Такой большой, и только в первый раз?!
Он даже перегнулся с его плеча, придерживаясь за волосы на макушке, чтобы заглянуть Герту в лицо: не шутит ли тот?
И вот теперь он, Герт, призывает его к себе на помощь, сюда, в тюрьму, зовет воспоминание об этом русском мальчике Хлебушке, о Красной площади, о Сталине на трибуне мавзолея, обо всем этом незабываемом, удивительном дне, самом счастливом дне своей жизни!..
Герт лежал на тюфяке ничком, как бросили его надзиратели, — неподвижно, не меняя положения. Дрожь сотрясала все реже его худое тело. Дыханье делалось ровнее, глубже…
…А в это время гвардии капитал Глеб Васильев, отирая пот с усталого, закопченного лица (посмотрела бы на него сейчас мать, для которой он по-прежнему был мальчиком Глебушкой!) пробивался со своими самоходками на запад по берегу Дуная. Советские войска, пройдя за месяц Венгрию и Чехословакию, уже подступили к Вене.
Двенадцатого апреля был сбит засов с восточных ворот — пали Гроссенцерсдорф и Эсслинг. Уличные бои придвинулись к центру. На чердаках, прикованные цепью к пулеметам, сидели гитлеровцы-смертники.

Сборник приключенческих повестей и рассказов.СОДЕРЖАНИЕПОВЕСТИПетр Шамшур. ТрибунальцыВсеволод Привальский. Браунинг №…Игорь Болгарин, Виктор Смирнов. Обратной дороги нетАркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Ощупью в полденьРАССКАЗЫЮрий Авдеенко. Явка недействительнаСевер Гансовский. Двадцать минутЛеонид Платов. МгновениеВладимир Понизовский. В ту ночь под Толедо.
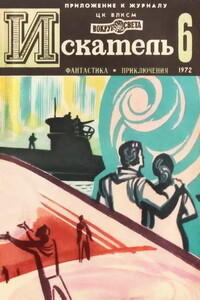
На 1-й и 4-й стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА.На 2-й стр. обложки — рисунок А. БАБАНОВСКОГО к повести Л. ПЛАТОВА «Бухта Потаенная».На 3-й стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к рассказу М. ЛЕЙНСТЕРА «Одинокая планета».
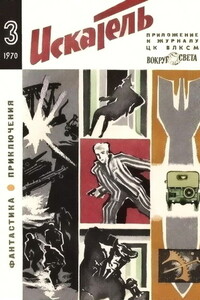
На 1-й странице обложки — рисунок А. ГУСЕВА.На 2-й странице обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к очерку Ю. Платонова «Бомба».На 3-й странице обложки — рисунок Л. КАТАЕВА к рассказу Л. Успенского «Плавание «Зеты».

Повесть о советской этнографической экспедиции, которая обнаруживает в горах Бырранга на Таймырском полуострове затерявшееся племя самоедов-нганасанов и спасает их от вымирания.

Библиотека приключений и научной фантастики, 1949 год В книгу входит дилогия Леонида Платова "Архипелаг исчезающих островов" (1949), в которой рассказывается об экспедиции на Крайний Север с поисках неведомой земли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Бригадир Зардаков после селевых потоков, которые обрушились на его поля с посеянным хлопком, случайно обнаружил пещеру, которая вывела его в параллельный мир. А почему бы и здесь не посеять хлопок? — подумал он тогда…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вокруг дома доктора Миндена бродит толпа фанатиков и ищет женщину, несущую в себе зловредное семя, чтобы убить ее. А в это время дочь доктора, четырехлетняя Джинни, требует, чтобы ей сделали три тысячи семьсот восемь бутербродов с арахисовым маслом.