Весна в Фиальте - [46]
Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето, Вы конечно ни на минуту не забываете, — как забывали мы, — что с февраля “страной правило Временное Правительство”, и заставляете нас с Катей чутко переживать смуту, то есть вести (на десятках страниц) политические и мистические разговоры, которых — уверяю Вас — мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк: как-то, на Миллионной, грузовик, набитый революционными весельчаками, неуклюже, но все же метко вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробегавшую кошку, — она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного, черного лоскута, только хвост был еще кошачий, — стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью семнадцатого года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней эмиграции.
Нет, в ту осень, в ту зиму мы не о том говорили. Я погибал. С любовью нашей Бог знает что творилось. Вы это объясняете просто: “Ольга начинала понимать, что была скорей чувственная, чем страстная, а Леонид — наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда нерастаявший кусочек”, и так далее, в том же претенциозно-пошлом духе. Что Вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней, но теперь, кабы не боязно было заразиться Вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, — было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка, — кто скорей домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин, — и всякая живая, дневная мелочь этого последнего русского лета надрываясь кричала нам: вот я — действительность, вот я — настоящее! И пока все это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашей любви не шла дальше той преданности небывшему былому, о которой я уже упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпадал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой, смесью снега и навоза, без которой я не мыслю русского города, — изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания.
Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях, — или в темном, закрытом платье, сидящую на синей кушетке, с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной морозной, сизой от звезд ночи невозмутимые и неизменные вехи моего пути, — все те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику вполоборота, как становится все, что прекрасно: оно не видит вас, оно задумчиво и рассеянно, оно отсутствует. Я говорил сам с собой, — увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора, — и когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своем нарядном меховом пальто, в котелке набекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то, всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, припоминал, спешно собирая все это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик, и особенно картавый выговор, появлявшийся, когда она без нужды переходила на французский, и неуязвимую слабость к титулованным стихам, и злобное, тупое выражение ее глаз, смотревших на меня исподлобья, когда я в сотый раз допрашивал ее, — с кем она провела вчерашний вечер... И как только все это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, — и что никаким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер — пробиваясь сквозь матросский контроль на углах, требовавший документов, которые все равно давали мне пропуск только до порога Катиной души, а дальше были бессильны, — я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую, твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечавшую на фарфоровом языке. И когда, наконец, в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала, — осталась неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество, — и я, дослушав тишину до конца, встал и вышел. Спустя три дня я послал ей со слугой записку, — писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу, и вот, помню, как восхитительным утром с розовым солнцем и скрипучим снегом, мы встретились на Почтамтской, — я молча поцеловал ей руку, и с четверть часа, не прерывая ни единым словом молчание, мы гуляли взад и вперед, а на углу бульвара стоял и курил, с притворной непринужденностью, весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ней молча ходили взад и вперед, и прошел мальчик, таща санки с рваной бахромкой, и загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил, — и затем, на той же как раз точке, где мы встретились, я так же молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел — уже по-настоящему. Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь, прощай, прощай, моя любовь. Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта, мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся никогда... Да-да, прощай... Ты все-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельна, — несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений, и тысячу мелких предательств, — а я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью, был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. И нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты, с бликом на губе и светом в волосах, смотришь мимо меня. Катя, отчего ты теперь так напакостила?

В 1955 году увидела свет «Лолита» — третий американский роман Владимира Набокова, создателя «Защиты ужина», «Отчаяния», «Приглашения на казнь» и «Дара». Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих произведений XX века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг «Лолиты» уже давно улеглись, южно уверенно сказать, что это — книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, «любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда».В настоящем издании восстановлен фрагмент дневника Гумберта из третьей главы второй части романа, отсутствовавший во всех предыдущих русскоязычных изданиях «Лолиты».«Лолита» — моя особая любимица.

Гениальный шахматист Лужин живет в чудесном мире древней божественной игры, ее гармония и строгая логика пленили его. Жизнь удивительным образом останавливается на незаконченной партии, и Лужин предпочитает выпасть из игры в вечность…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Дар» (1938) – последний русский роман Владимира Набокова, который может быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его творчества и одним из шедевров русской литературы ХХ века. Повествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской словесности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого посредством воспоминаний, любви и искусства. В настоящем издании текст романа публикуется вместе с авторским предисловием к его позднейшему английскому переводу.

Роман, задуманный Набоковым еще до переезда в США (отрывки «Ultima Thule» и «Solus Rex» были написаны на русском языке в 1939 г.), строится как 999-строчная поэма с изобилующим литературными аллюзиями комментарием. Данная структура была подсказана Набокову работой над четырехтомным комментарием к переводу «Евгения Онегина» (возможный прототип — «Дунсиада» Александра Поупа).Согласно книге, комментрируемая поэма принадлежит известному американскому поэту, а комментарий самовольно добавлен его коллегой по университету.

Свою жизнь Владимир Набоков расскажет трижды: по-английски, по-русски и снова по-английски.Впервые англоязычные набоковские воспоминания «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство») вышли в 1951 г. в США. Через три года появился вольный авторский перевод на русский – «Другие берега». Непростой роман, охвативший период длиной в 40 лет, с самого начала XX века, мемуары и при этом мифологизация биографии… С появлением «Других берегов» Набоков решил переработать и первоначальный, английский, вариант.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
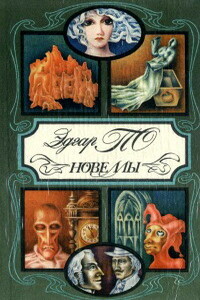
Молодой человек взял каюту на превосходном пакетботе «Индепенденс», намереваясь добраться до Нью-Йорка. Он узнает, что его спутником на судне будет мистер Корнелий Уайет, молодой художник, к которому он питает чувство живейшей дружбы.В качестве багажа у Уайета есть большой продолговатый ящик, с которым связана какая-то тайна...

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
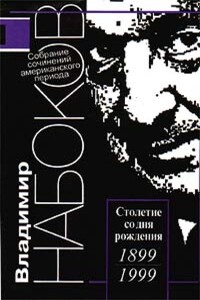
Собрание рассказов Набокова, написанных им по-английски с 1943 по 1951 год, после чего к этому жанру он уже не возвращался. В одном из писем, говоря о выходе сборника своих ранних рассказов в переводе на английский, он уподобил его остаткам изюма и печенья со дня коробки. Именно этими словами «со дна коробки» и решил воспользоваться переводчик, подбирая название для книги.

Полное собрание русских и английских рассказов крупнейшего писателя ХХ века Владимира Набокова в России издается впервые. Подготовленный в 1995 году сыном писателя, Дмитрием Набоковым, английский том короткой прозы Набокова хорошо известен на Западе. Однако по-русски, на «ничем не стесненном, богатом, бесконечно послушном» языке, на котором Набоков написал большую часть своих рассказов, книга до сих пор издана не была. Благодаря многолетней работе исследователей Набокова под одной обложкой удалось собрать все шестьдесят восемь рассказов, написанных им в 1920–1951 годах в европейской эмиграции и Америке.

Рассказы Набокова прославлены в принципе значительно меньше, чем его романы. Однако "малые" произведения этого писателя занимают в его творчестве совершенно особое, самостоятельное место, и каждый из них, по справедливому замечанию критиков, стилистически "выполняет собственные и несколько иные задачи".
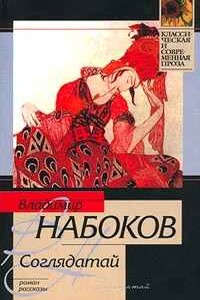
"Соглядатай" - роман, занимающий особое место в многообразном, многоуровневом творчестве В. Набокова. Практически впервые здесь набоковская проза, обычно - холодно-изящная, становится нервной, захлебывающейся, угловатой. Экспрессионистская ли эстетика довлеет здесь над "вечной" для писателя темой эмигрантской трагедии - или, напротив, тоска выломившейся из прошлого и утратившей надежду на будущее "России в изгнании" задает неровный, "дерганный" ритм повествования? Мнений может быть много, но - какое из них верное? Решите сами...