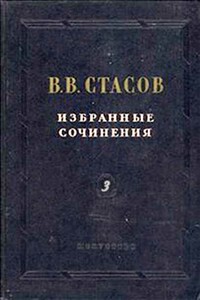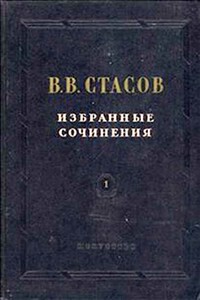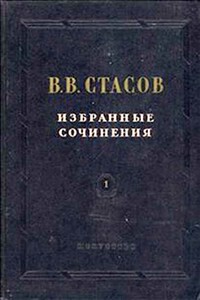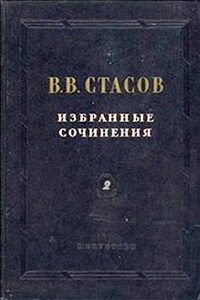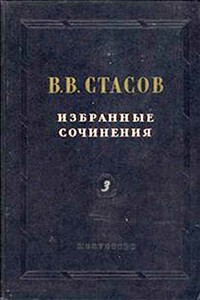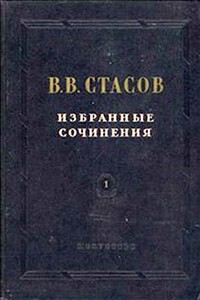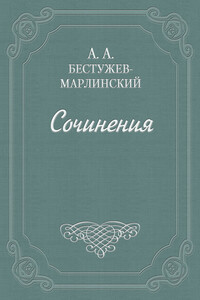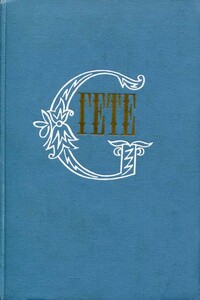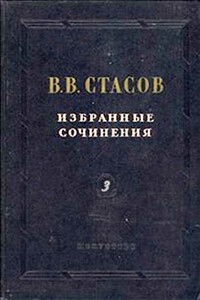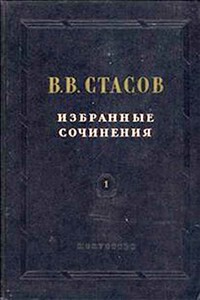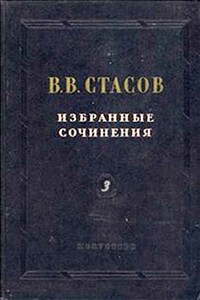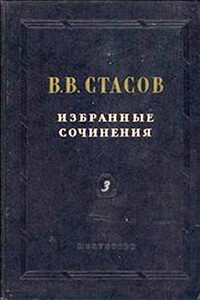И действительно, что же в этом либретто такого невыносимого, возмутительного для всех? Читают же все совершенно спокойно и с полным удовольствием не только поэму Пушкина, послужившую основой Глинке, но и множество других в том же роде, и никто не жаловался. Иные скажут: да, это так, но у Глинки в опере сцены не связаны между собой, в общем ходе часто слышны пробелы, часто на сцене вовсе нет действия, так что то или другое лицо оперы придет, споет свою вещь, арию или каватину, и потом уйдет, чтоб уступить место другому лицу, которое точно так же придет, споет и уйдет. В этих обвинениях есть своя доля справедливости: действительно, в опере есть такие места. Я и не думаю их защищать, очень хорошо их знаю и сожалею, что они существуют. Но все-таки не верю, чтоб они могли служить действительным поводом к антипатии или равнодушию публики к «Руслану». В защиту этой оперы относительно последнего обвинения можно сказать многое. Положим, что в иных сценах, одна за другою следующих, и нет иногда связи, чувствуешь пробелы; но все это именно — пробелы и ничто больше. Партитура «Руслана» представлялась мне всегда таким созданием, которого иные части недоделаны автором или утрачены. Представьте себе драму Шекспира, из которой исчезло несколько самых важных сцен, таких, в необходимости которых никто не может сомневаться; представьте себе поэму Байрона, откуда вырвано или где недоделано несколько капитальнейших строф, непременно требуемых ходом поэмы; представьте себе драгоценную статую, у которой отбита или недоделана рука, нога, может быть, даже голова. Все это — несчастия, невознаградимые, неисправимые несчастия. Но неужели потому, что эти печальные факты существуют, мы должны меньше ценить то, что уже существует, меньше чувствовать гениальность того, что есть налицо, и даже, по прекрасной мысли г. Серова, должны отвертываться от такого произведения? Опять-таки: условная форма арий и проч. Я первый сожалею о ней, искренно печалюсь, что великое создание Глинки не свободно от нее. Но неужели теперь или когда-нибудь после, через 50-100 лет, когда условность форм утратит свое значение в искусстве, будут менвше преклоняться перед гениальностью созданий, которые явились на свет в условных, неудовлетворительных формах прежнего времени?
Неужели 9-я симфония Бетховена перестанет когда-нибудь быть чудом искусства потому, что по заведенному порядку состоит, как и все симфонии, из непременных: allegro, scherzo, adagio и финала, да еще сочиненных (кроме финала) по известной симметрической формуле? А разве «Руслан» занимает не то же самое место между операми, как 9-я симфония между симфониями? Разве оба создания не принадлежат одинаково к числу высшего, что только создано искусством всех времен и всех народов? Но что бы ни было впереди, какие бы ни стали будущие понятия и оценки грядущих поколений, верно то, что наши современники не имели никакого права с негодованием и антипатиею смотреть на «Руслана» за условность традиционных форм в иных местах его: эти формы еще никогда и нигде не возмущали их. Тем людям, которые жаловались на арии и прочее в опере Глинки, я бы сказал: «А отчего вы никогда не жаловались не только на арии у Россини, Беллини или Верди, но даже у Мейербера и, наконец, в последнее время у г. Серова? У всех у них этого добра не мало». Говорят еще: «Что это за баллада Финна, что это за хор Головы и прочие арии, которые заставляют маяться самым немилосердным образом присутствующего тут Руслана или кого другого: что им в это время делать, куда деваться, что изобрести?» Да, отвечаю я, это правда, и мне очень жаль, что у Глинки есть в опере такие промахи, такие недочеты; но я спросил бы самих вопрошающих: «Отчего же только у Глинки увидали вы этот сучок в глазу, а не видали бревна во всех остальных хваленых, восхищающих каждого операх?» Так, не говоря уже о примерах прежнего времени и помня лишь то, что теперь происходит у нас пред глазами, я бы спросил: «А что должны делать прочие действующие лица на сцене, пока Олоферн поет свою арию, Вагоа и Авра свои песни, Изяслав свою песенку, Рогнеда свою балладу, ее прислужницы — свои хоры или пока женщины пляшут свой хоровод, а скоморохи — свою пляску?»
Нет, все это плохие резоны, бессвязная логика — мудрено им верить. Нет, не за либретто так не любят «Руслана», не в содержании, не в условных формах, не в недостатке действия весь порок этой оперы: противоположных качеств публика и фельетоны еще никогда и не видали или, по крайней мере, еще никогда и не замечали на сцене, да в них и не нуждались. Нет, в чем-нибудь другом надо искать причину антипатичности великой глинкинской оперы для массы. Все это только увертки, предлоги и отговорки. Настоящие же причины, по-моему, совсем другие.
Во-первых, во всем, что создано Глинкой высшего и лучшего (а таков почти весь «Руслан»), нет уже более ни итальянщины, ни иной какой-нибудь плоской, общедоступной пошлости: все дышит поэзией и глубоким самостоятельным творчеством. Это масса не скоро прощает. Ей нужны, для того чтобы почувствовать удовольствие, восторг, энтузиазм — такие жалкие, несчастные вещи, как «пляска скоморохов», «женский хоровод», дуэт Руальда со странником, пилигримские хоры.