Вербалайзер - [18]
Больше всего Григорий Евсеевич, покрасневший быстро лицом от вечно хорошей погоды и вкусной обильной еды с красным вином, любит сидеть в шезлонге рядом с мраморным черным херувимом на постаменте, которого он за небольшие деньги заказал в Мельбурне, а потом берет могучий помповый дробовик и идет пострелять в кенгуру, которые иногда запрыгивают к нему на территорию, но попадает редко, – аборигены его за это ругают.
Головная боль
Говорят, что в зрачке жертвы остается изображение убийцы. Я проверял – ерунда.
Шерлок Холмс
Сухой ноябрьский ветер, приправленный мелким редким снегом и ржаво-коричневыми остатками листьев, собиравшимися в небольшие цвета молотого черного перца кучки под скамейками, короткими порывами бросался из аллеи в аллею обширного малоухоженного парка, пытался тычками выдавить стекла неуютного особняка, желтой своей облезлостью на фоне черных деревьев раздражавшего до неумеренного зевания и скрипения зубами крепких молодых людей в длинных шинелях и с длинными винтовками, охранявших подходы к Горкам. Внутри дома, уединившись от челяди и ни черта не смыслящих врачей, в хорошей кожи кресле, подпихнув под начинающие нездорово жиреть бока несколько белых, пахнущих хлоркой наволочек, казенных подушек и загораживаясь ладонью от помигивающего неяркого света высоковатой для его роста лампы, мучался тоскливым бездельем Владимир Ильич Ульянов. Он не думал сейчас ни о положении на фронтах, ни о дохнущем с голоду населении больших городов, ни об отвратных склоках в ЦК, ни о пристроенных, но все еще скулящих о подачках брате и сестрах, – ни о ком и ни о чем он сейчас не думал. Готовый завыть от безысходности неотвратимого ожидания, Ленин маялся легкой тошнотой и головокружением, обязательно предварявшими долгие приступы головной боли, унять которую не могли ни лекарства, ни массажи-примочки-притирания, ни кислород, ни даже уколы легких наркотиков, от которых только еще сильнее кружилась голова, возможность соображать пропадала совсем, пересыхало во рту, так что нельзя было даже отплюнуться от этой дичайшей несуразицы клейкой слюной с гниловатых уже зубов. Нет еще и пятидесяти, злобно ощериваясь на первые шевеления боли под черепом чуть выше затылка, думал он, что за чепуха, неужели нет средства избавить меня от этой пытки? Немцы хваленые – идиоты, идиоты, дрянь, – гумма, говорят, у вас в головушке, как бы не третьей степени, извольте-с. Меня тогда отлично вылечили сальварсаном в Швейцарии после Инессиных забав, дура, дура, и в крови – ни малейших признаков люэса, – какая гумма, мерзавцы? Может, действительно, это от тех пуль, на заводе Михельсона, когда Яшка Свердлов решил меня положить, сволочь местечковая, нет же – выкуси, сам сдох, сдох, и все сдохнут, кто посмеет. Нет, нет, это позже началось, где-то зимой 18-го, я тогда даже сознание потерял, – первый раз накатило. Вот она, опять, опять, опять…
Ленин откинулся в кресле, левой рукой обхватил лоб, правой – вцепился в гладкую кожу обивки, но тотчас оторвал руку и пальцами ее надавил до встречной слепящей боли на глаза, потому что невидимая несуществующая с длинными когтями на иссохших пальцах длань начала терзать сосуды его мозга, потягивая их и отпуская, как гитарные басовые струны, и отзвуки этой немыслимой боли пробегали по всему телу, заставляя его корчиться и распрямляться судорожно. Он извивался в кресле, стараясь не выпасть из него на пол, как будто знал, что упадешь – и все, конец, смерть, кричал, но из схваченной судорогой глотки не было звуков, кроме шипения воздуха, выталкиваемого налившимися сизой кровью легкими. Вбежали, наконец, в белых халатах двое, навалились, задрали рукав, воткнули шприц, и, теряя уже сознание, Ульянов вспомнил, с чего это началось, понял, что его убивает, неподвластное ни лекарям, ни знахарям, ничему.
Тем временем в одной из четырех комнат отличной квартиры в третьем этаже высокого серого дома на Ордынке катался по паркету, расшибая в кровь конвульсивными размахами колени и локти, помкомвзвода Семен Подлугин, один из тех молодцов, что посменно охраняли покой вождя то в имении вблизи Пахры-реки, то в Кремле. Коротко стриженая голова Подлугина бухала изнутри ударами парового молота, виденного Семеном на каком-то заводе, куда он был наряжен охранять Предсовнаркома, выступавшего на митинге, и бил этот молот точно в маковку Семенова черепа, разбрызгивая ударную окалину раскаленной боли к вискам, к глазам, к затылку, откуда она ссыпалась вниз, к стонущему от натуги сердцу. Очухиваясь от приступов, пил Семен то спирт, заедая его пайковой перловкой и пересохшей воблой, а то и денатурат, оставшийся в кладовой от прежнего хозяина квартиры и хранившийся в больших пыльных бутылях. Подлугин не знал, зачем старикан-профессор хранил столько этой дряни, а догадываться и узнавать ему было и лень, и некогда – служба. Книжки профессорские Подлугин сжег в печке еще прошлой зимой и теперь уже не помнил ученое слово «зоология», виденное им на корешках многих спаленных книг. А поговорить с дедком не успелось, – получив в Замоскворецком райкоме ордер на проживание в профессорской квартире, Семен сразу же пришел на Ордынку, свалил в прихожей кучей барахлишко свое, шинель, винтовку, подсумки, протопал по комнатам крепкими башмаками, выбрал не самую большую, а красивую и с печью, заставил трясущегося деда забрать из помещения шмотки и вселился. На следующее утро ушел в караул на сутки и все время стояния на холоде, валяния на нарах в месте для отдыха думал, думал, думал, как же ему быть с квартирой. Стукнуло, слава те господи, в голову неученую – чего думать-то, если дед сказал, что родни у него нет и что очень он жалеет, что не помер, контра, заблаговременно, не нравится ему, вишь, новая власть – и жрать нечего, и спать холодно, и улицы не метут, сугробы у парадного – до шеи.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
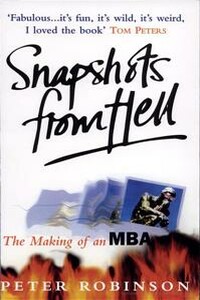
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?