Венеция в русской литературе - [7]
Несмотря на ряд допущенных Ю. Нагибиным неточностей, нельзя не увидеть многоаспектность его венецианского предтекста, включающего в себя и русскую литературную венециану ХХ века.
Неудача с несостоявшейся поездкой не отменяет «венецианского» развития сюжета, но заменяет в рассказе один сюжетный вариант другим: «…я слишком пропитался Венецией, чтобы перейти к обычным делам и заботам. Меня тянуло к воде, и я вспомнил, что возле нашего поселка, на речке Коче, есть лодочная станция. Сеня Боркин, поселковый электрик, сказал мне, что можно достать мотор. Хозяин мотора, инспектор ГАИ на пенсии, наверняка не откажется от совместной прогулки по Коче, особенно если распить с ним в пути бутылочку кубанской. Меня увлекло предложение Боркина: присутствие в нашей компании инспектора ГАИ усиливало ирреальность предстоящего путешествия, которое втайне мне мыслилось путешествием по каналам и лагунам Венеции» (70).
Так место Canale Grande занимает река Коча, а место гондольера — инспектор ГАИ на пенсии. Далее, создав устойчивый венецианский фон благодаря упоминаниям о рыже-золотистых венецианках, венецианских снах, карнавале, венецианских каналах, автор повествует о российском быте. Венеция до будущей реальной встречи с нею так и остается лишь в предощущении, которое включает в себя совершенно необходимую автору-герою убежденность в ее подлинном присутствии в обширном земном пространстве: «Они [самолеты. — Н. М.] летят в Париж, Лондон, Венецию, Гавану, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Токио. Я спокойно провожаю их взглядом, у меня есть свое Покровское, по воде до него столько же, сколько до Венеции „воздухом“» (82).
Таким образом, описание предощущения Венеции, ставшее в ХХ веке привычным звеном сюжета многих составных русской литературной венецианы, может в отдельных случаях «повысить» свой статус до фактора сюжетообразующего. Но даже если этого не происходит, данное описание сохраняет за собой положение значимой языковой единицы венецианского текста. Формы выражения предощущения могут быть различными: встраивание в венецианский пратекст, индивидуальные образные сцепления, сон, как в романе Ю. Буйды «Ермо», но в сюжете оно всегда выступает как часть большого события, именуемого встреча с Венецией. Степень адекватности, равно как и сила предощущения, также может быть разной. Фактически именно на это указывает П. Перцов, замечая вслед за суждениями о «врожденной идее» Венеции, что «первое впечатление от Венеции не в ее пользу» (3). Отсюда следует, что предощущение может быть сильнее первичного ощущения и качественно иным — здесь много значит характер психологической установки. Однако в пространстве художественного текста обе Венеции — данная в предощущении и увиденная воочию — сливаются в одну, поскольку и первая и вторая в одинаковой степени ориентированы на создание цельного образа уникального города.
Глава 2
ОТ ЭМПИРИЧЕСКОГО К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ ВЕНЕЦИИ
Культурно-психологические аспекты венецианской литературной географии
Особенности восприятия Венеции, о которых мы говорили во введении, полностью определяют организацию пространства в русской литературной венециане. Замечание Л. Лосева относительно того, что «Венеция, которая стоит даже не на краю моря, а как бы в самом море… приобретает в дни Рождества исключительный статус в поэтической географии И. Бродского, статус места вне времени и вне пространства»[27], в значительной степени справедливо не только для рождественских дней и не только для И. Бродского.
По мере формирования поэтического (в широком значении слова) образа Венеции ее географическая прикрепленность начинает приобретать признаки относительности в том смысле, что местоположение города во внешнем мире нередко определяется художниками не абсолютно, а по отношению к… В диахроническом ряду русской литературной венецианы это ее свойство соотносится по преимуществу с ХХ веком. Для писателей предшествующего периода Венеция, даже значимая сама по себе, устойчиво существовала как оригинальная, но не вычлененная метафизически составная либо обширного европейского, либо общего итальянского контекста. Этот ракурс изображения «царицы волн морских» был задан уже И. Козловым в 1825 году. Многократно отмечавшиеся несообразности в его стихотворении «Венецианская ночь» в какой-то мере порождены некритическим отношением поэта к байроническим клише, но отчасти они кажутся несообразностями только потому, что ориентированное собственно на Венецию восприятие читателя отсекает городской пейзаж от прибрежного, тогда как у И. Козлова понятие венецианской ночи охватывает и Венето, раздвигая границы локуса. Еще отчетливее контекстуальная принадлежность Венеции представлена в стихотворении И. Козлова «К Италии» (1825), где Венеция, будучи частью целого, одновременно представительствует за это целое.
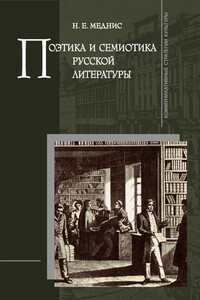
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.