Великий трагик - [13]
Я стал внимательно прислушиваться и приглядываться к заключительной сцене Яго с Родриго. Яго вел ее очень умно, мастерски скрыл даже резкости шекспировской формы – беспрестанное упоминание кошелька, играл отлично в итальянски-трактирном тоне, который, между прочим, очень близок к нашему, ловко и с подходцем издевался над Родриго: но ведь этого мало – тут у Яго заключительный монолог… Пусть и прав Иван Иванович, пусть мстительность и зависть составляют пружины действия Яго, – но он способен быть артистом зла, способен любоваться своей адской расчетливостью, своим критическим предведением; тут уже не просто мошенник, а софист, который порешил для себя все сомнения и колебания, окончательно отдался злому началу. Тут уже нужен трагик…
Акт кончился. Мы с Иваном Ивановичем молча вышли из posti distinti и молча же пошли в театральную кофейню, сальнее и грязнее которой едва ли найдется где-либо другая в целом мире, исключая опять-таки Флоренцию, – ибо кофейня театра Боргоньиссанти еще краше этой.
Сохраняя то же молчание, Иван Иванович подошел к буфету, вонзил в себя (я вообще желаю сохранить для потомства многие его выражения) рюмку коньяку, – застегнул оную апельсином, выбросил павел (т. е паоло[80]) и оборотился ко мне.
– Вы говорили мне, – начал он, продолжая есть апельсин, – что я трагик. Пожалуй, так, но я трагик такого сорта, что понимание трагического у меня идет об руку с пониманием комического. Мне смешны те люди, которые восторгаются Рафаэлем и не понимают фламандцев: по-моему, они и Рафаэля-то не понимают… А трагизм ходульный мне смешнее, чем кому-либо другому, – вы это знаете… Да! да! – продолжал он с жаром, – много нужно трагику для того, чтобы можно было поверить в трагизм.
– Один актер, мой приятель,[81] – начал я, – большой мастер на рассказы, удивительно представляет провинциального трагика. Его рассказ – этот рассказ я слышал перед самым отъездом за границу и он уцелел у меня в памяти, вместе с последнею сходкою множества разъезжавшихся в разные стороны друзей…
– Господи! вы и говорить наконец привыкаете такими же несносно-длинными периодами, какими иногда пишете, – перебил с нетерпением Иван Иванович… – Ну-с… его рассказ – ведь в нем дело, а не в ваших приятелях… Но постойте… я пройдусь еще по коньячилле.
– Иван Иванович! – начал было я с упреком, но видя, что он уже свое дело кончил мгновенно, я ограничился только замечанием насчет того, что он заражен в выражениях тоном Яго и Родриго.
– Рассказ его, – продолжал я затем, – произвел на меня сильное впечатление. Не могу вам передать всего комизма его, ибо много комизма пропадет за отсутствием мимики и интонаций. Приятель мой отлично представлял, как трагик – Ляпунов, рычавший неистово в четвертом акте Скопина-Шуйского, рычит еще и по закрытии занавеса, рычит в уборной, рычит, когда его вызывает беснующаяся публика и т. д., как он потом напивается у содержателя, ругает его, недовольный им за его несправедливости и подлости, ибо трагики без негодования на несправедливости и подлости существовать не могут, – и под конец, в злобе на неверность первой трагической артистки, – скусывает ей нос на прощанье… Все мы хохотали до судорог, но мне все приходила в голову мысль, – что ведь это только комическое представление черт, которые существуют и – может быть – должны существовать в истинном, великом трагике; мне приходил в голову великий трагик, которого я знал лично…[82] Как вы думаете, верит ли и в какой степени верит трагик в представляемые им душевные движения?…[83]
– Ну, это длинный вопрос… пойдемте, пора, – сказал Иван Иванович. – Должно быть, начинают, видите, никого не осталось в кофейной…
– А что ж Сальвини, – спросил я не уходя.
– Ничего: посмотрим! – отвечал Иван Иванович… – Мне что-то доброе сдается.
– И мне, – сказал я.
В задний план сцены уже колотили что есть мочи чурбанами, что обозначало пальбу из пушек, когда мы вошли, – значит, прибыли корабли в Кипр. Садясь, мы застали уже на сцене Кассио, Монтано и про чих. Потом, как следует, явились Яго и Дездемона – и кстати, знаете ли что это имя произносится итальянцами не Дездемóна, как мы произносим и как выходит по складу стиха у самого отца ее, а Дездéмона. Половина острот и куплетов Яго была выброшена – да я об них и не жалел: их надо или передавать с солью, понятной для современной публики, или лучше вовсе выбрасывать. Явился Отелло, и я был опять поражен его наружностью и новой костюмировкой – уже совсем воинственной, но опять изящной без изысканности. Несколько слов к Дездемоне были сказаны так душевно и так мелодически, звучали такою пламенно страстью, что все вместе оправдывало увлечение молодой венецианки пятидесятилетним сыном степей, бурь и битв… Он был чудно хорош – своим коричневым лицом, с высоким, изрытым морщинами челом под чалмою, обвивавшей блестящий стальной шлем, с двоими пламенным глазами, в белом плаще, из-под которого сверкали латы… Толпа снова встретила его взрывом – и в самом деле, так просто-величаво умел входить только он… Vorrei amar lo un giorno e poi morir!..[84] – говорила мне потом синьора Джузеппина.
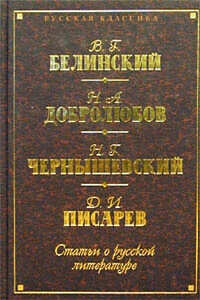
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опера Дж. Мейербера «Роберт-дьявол» имела большой успех у русских романтиков: ей увлекались молодые В.П.Боткин и В.Г.Белинский, неоднократно упоминал о ней в своих статьях и А.Григорьев. Данная статья – рецензия на спектакль приехавшей в Москву петербургской немецкой оперной труппы.
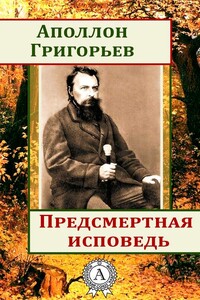
«Предсмертная исповедь» − поэма талантливого русского поэта, переводчика и литературного критика Аполлона Александровича Григорьева (1822 − 1864).*** В этом произведении описаны последние часы жизни одинокого и гордого человека. Рядом с ним находится его единственный друг, с которым он перед смертью делится своими переживаниями и воспоминаниями. Другими известными произведениями Аполлона Григорьева являются «Вверх по Волге», «Роберт-дьявол», «"Гамлет" на одном провинциальном театре», «Другой из многих», «Великий трагик», «Листки из рукописи скитающегося софиста», «Стихотворения», «Поэмы», «Проза».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
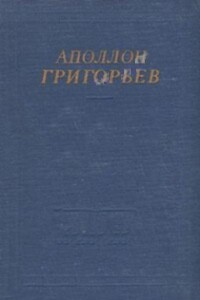
В сборник включены лучшие лирические произведения А.Григорьева (среди них такие перлы русской поэзии, как «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная» и «Цыганская венгерка») и его поэмы. В книгу также вошли переводы из Гейне, Байрона, Гете, Шиллера, Беранже.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
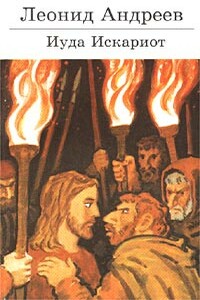
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.