Великие кануны - [3]
Может, люди возлюбили там холод, тревогу, тьму, страдания? И, может, проникнуть в иной мир дано лишь тому, кто отказался от приманок и соблазнов земного существования, кто сроднился с вечной бессонницей, с бедностью, слабостью, кого на земле участь поденщика привлекает больше, чем царский престол, кто не хочет уже здесь быть первым и никогда не считает себя последним, кто осмеял то, что люди в нем считают лучшим, и бережет в себе то, что считается худшим, никому не нужным...
IX
Основная черта художественного творчества — совершенный произвол во всем: и в значительном, и в мелочах. Художник произвольно наряжает своих героев и героинь в будничное или праздничное платье, по его прихоти ясное небо покрывается тучами, гремит гром, сверкает молния. Захочет он — холодно, захочет — жарко. Действие разыгрывается то в пустыне, то в горах, то в большом городе; то в наше время, то в эпоху фараонов и даже доисторическую. Он любит и ненавидит то, что ему вздумается. Сегодня преклоняется пред красотой, завтра пред уродством. Он возмущается, умиляется, надеется, приходит в отчаяние, мстит, прощает, повинуясь только собственному произволу, иначе говоря,— ничему не повинуясь. То, что ему сейчас кажется смертным, непростительным грехом — после представится ему великой заслугой. Почему? В том-то и дело, что к этому привычному «почему» нужно приставить новое почему. Т. е. почему мы воображаем, что всегда полагается допытываться объяснений? И что такая пытливость при всех обстоятельствах жизни уместна? Ведь вот учил же Кант, что причинная зависимость применима только к «миру явлений». А что, если она и к миру явлений не всегда применима? Если «свобода» или, гораздо лучше (на первых порах, по крайней мере, чтоб подчеркнуть прежнее заблуждение), произвол проникает уже и в мир явлений и не замечается нами только потому, что мы не умеем сделать из него никакого употребления? Мы все хотим объяснить, истолковать — даже художественное творчество с его всем знакомыми капризами и неподдающимися никакому предвидению порывами. Ибсен в одной пьесе заявляет, что отказаться от любимой женщины — величайшее преступление, в другой — он благословляет поэта, отдавшего свою возлюбленную положительному купцу. Когда он говорил правду? Когда был прав? Мы привыкли думать, что из двух противоположных утверждений одно — истинно, другое — ложно, что нужно выбирать из них и, однажды выбравши, потом всю жизнь держаться определенного убеждения. А вот Ибсен, никого не спросившись и не считаясь с нашими привычками, поступает иначе. Написал «Северных богатырей», написал и «Комедию любви». А через много, много лет снова возвращается к той же теме и снова с непоколебимой твердостью повторяет в «И. Г. Боркмане», что пожертвовать даже ради величайшего дела любимой женщиной — смертный грех. Проследите за Ибсеном: все его творчество — непрерывные колебания и противоречия. За «Брандом» идет «Пер Гюнт»: первый — апофеоз пророчества, второй — насмешка над пророками. Извольте-ка объяснить эти противоречия! Большая публика прямо говорит, что она не понимает Ибсена, и большая публика на этот раз совершенно права. Ибсена нельзя понять. Следует только прибавить: ни одного настоящего художника при его появлении никогда не понимали. В свое время Гете вызывал не меньше недоумений, чем теперь Ибсен. Второй части «Фауста» никто и по сей день не понимает. А сколько толкований вызывает «Гамлет»! Как враждуют немцы со своим Гейне! Как возмущались англичане Байроном! Примеров можно было бы насчитать бесчисленное множество. Нельзя понять ни Ибсена, ни Шекспира, ни Байрона, ни Гете — нельзя и объяснить их. Объясненный поэт все равно, что увядший цветок: нет красок, нет аромата — место ему в сорной куче.
Опыт «научной литературной критики» Тэна был мертворожденным. Критика не может и не должна быть научной — т. е. затягиваться в систему логически связанных положений. Критик «видел» своими глазами то, о чем рассказывает поэт, и потому вправе пользоваться всеми привилегиями, дарованными Аполлоном своим избранникам. Если поэту разрешается произвол, иными словами, если поэту предоставлена великая хартия вольности и позволено в нашем бедном, связанном железными законами, мире искать свободы,— то критик хочет и может требовать себе тех же прав.
X
«Посторонись от солнца» — сказал Диоген Александру Македонскому. Великий циник хотел быть гордым. Может быть, он ответил своему царственному собеседнику: если бы я и не был Диогеном, я все же не хотел бы быть Александром. Легенда об этом умалчивает. А меж тем, задача всех великих философов сводилась к тому, чтобы добыть себе право так отвечать величайшим из царей. В этом смысле большая ошибка говорить о развитии философских идей, об истории философии, как о процессе. Через 2000 лет после Диогена философия все продолжает свою тяжбу с Александром. Вероятно, Спиноза, если бы к нему явились все цари мира, ответил бы словами Диогена. И вообще, едва ли бы нашелся хоть один философ, который, если бы даже и не имел на то права, не хотел бы, по крайней мере, так ответить великому царю. С другой стороны, ответить словами не трудно, но кто знает,— не завидовал ли в глубине души безобразный циник своему красавцу собеседнику? И не сводится ли то, что мы называем «человеческим достоинством», к уменью искусно скрывать под гордостью вечную, мучительную зависть? Допустим на минуту, что Диоген завидовал Александру: такой возможности никто ведь оспаривать не станет. Но несомненно, что не было такой силы в мире, которая вызвала бы у Диогена соответствующее признание. Под ужаснейшими пытками Диоген все продолжал бы утверждать, что не желает быть Александром. И если бы это было ложью, то свою тайну Диоген унес бы с собой в могилу. Вероятно, что такого рода тайны были и у его соперника, Александра — и он тоже много важного и любопытного унес с собой в иной мир, оставив нам лишь то из своего достояния, что было для всех осязаемо и что историки, в качестве присяжных нотариусов времени, могли зарегистрировать на страницах своих летописей.
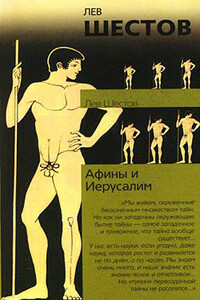
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
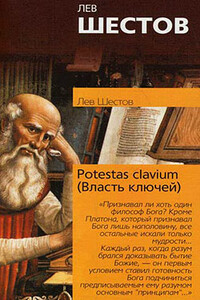
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.
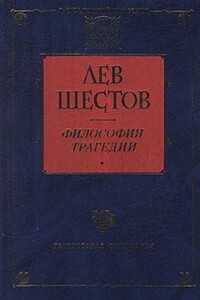
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.
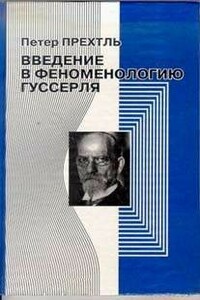
Книга известного современного немецкого философа Петера Прехтля представляет собой редкое по систематичности изложение феноменологии Эдмунда Гуссерля. Автор сосредоточивается не на историческом, а на тематическом плане гуссерлевских исследований.http://fb2.traumlibrary.net.