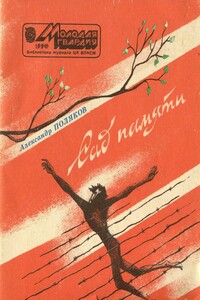Великаны сумрака - [19]
— Ясно, — согласился Левушка, не понимая, куда клонит новый приятель.
— А ежели ясно, то. — со значением произнес Зборомир- ский. — То и деньги, чего проще, принадлежат мужику. И, стало быть, «воздавать» их кесарю нет никакого основания.
Нервный, вспыхивающий порохом Зборомирский всегда задавался вопросом: а почему принято так, а не иначе? Почему монархия, а не республика? Почему, к примеру, никто не ходит пешком из Петровско-Разумовского в Москву? И прошел верст десять по шоссе, сбив ноги до хромоты. А почему студенты не работают на фабрике молотобойцами? Странное дело, его приняли, и бывший семинарист, едва поднимая тяжкий молот, бился с ним у наковальни неделю кряду, чуть было не погибнув в жаркой кузнице; после двух обмороков его выносили «на воздушок» сердобольные мастера с настороженными, как у всех тугоухих, глазами.
Однажды Тихомиров заехал к Зборомирскому. В грязноватой комнате на виду валялся молот с перебитой ручкой, и пахло жареным мясом, но мясом не совсем обычным: сквозь синеватый чад резко пробивался сладковато-муторный дух грязной паленой шерсти, и еще чего-то, уж очень гадкого, гнездящегося в затхлых щелях и выгребных ямах. К горлу Левушки подкатилась тошнота. Но хозяин глядел молодцом, упруго ходил вокруг стола, словно готовясь совершить нечто знаменательное. Наконец, замер над тарелкой.
— Знаешь, Тихомиров, — проговорил он так, точно звал друга вступить в тайную организацию, — я давно задавался вопросом: а отчего не едят мышей? Я вчера поймал мышь, сжарил и съел. — Зборомирский расхохотался, точно помешанный, широко раскрыв губастый рот.
Левушка с отвращением посмотрел на его язык; ему показалось, что изо рта приятеля еще торчали хрящи вонючей твари.
— Нет, Тихомиров, — погрозил липким пальцем Зборомирский. — Не-е-ет! Читая Лассаля или нашего. Этого. Сопливого враля Флеровского революционером не станешь! «Азбука социальных наук» ему. Слыхал?
— Знаю. — зачем-то соврал еще не пришедший в себя Левушка
— А у меня другая азбука! Я с точностью понял одно, Тихомиров: бунт — это крайность, тут уж надобно кадык распускать. Революция — это когда переступаешь через привычное. Ну и какой ты революционер, коли мышь съесть не можешь? То есть, переступить. Всякое большое дело с малого начинается. Такая азбука: поймай мышку да сжарь. Тогда и о революции поговорим.
О революции Левушке говорить не хотелось. Особенно в этой смрадной комнате. Да и чего было говорить. Еще с гимназии он знал несомненно: мир развивается революциями, и по-другому развиваться не может. Отрицать это — все равно, что отрицать вращение Земли вокруг Солнца. Нравится или нет, да куда денешься?
Но это в гимназии, а раньше? Да нет же, нет: в семье он был очень набожным мальчиком, молился со слезами, прося Бога на херувимской о своих детских нуждах, и искренне верил, что
Господь все устроит и разрешит. Отец говорил с ним о России, и он любил Россию — самую лучшую, самую большую страну на свете. Отец говорил о Государе, и Левушка любил Государя, всемогущего и всевысочайшего. Но почему, за что — он понимал смутно; отец об этом не говорил, монархизм Тихомирова- старшего был негромким, само собой разумеющимся, каким- то обыкновенным. Правда, на загородной прогулке, остановившись у раскидистого дуба-великана, отец мог спокойно бросить: вот, мол, чудесное дерево, дюжину повстанцев можно повесить. При этом у него в добрых друзьях ходили поляки (были они и на прогулке), но когда речь заходила о целостности Империи, которую все эти подпольные варшавские жонды хотели разрушить, отец становился неумолимым и жестким.
Но то, что Левушка узнал в гимназии — было необыкновенным. Демократ Герцен выглядел необыкновеннее консерватора Каткова. Задиристый Писарев поражал энергическими взрывами своих статей. (О чем они — это уж десятое дело!). Поразительно: Левушка читал их в «Русском слове», которое нашел в шкафах родного дяди Андрея Петровича Савицкого, монархиста, боготворившего Каткова. Потом в руки попали переводы Минье, Карлейли, Гарнье-Пажеса. И свои — Добролюбов, Чернышевский... Голова пошла кругом. К тому же и историки (милейшие, образованные люди) учили: республика — это прогресс, монархия — разумеется, реакция.
Так кто же прав, Циммерман с его «Миром до сотворения человека» или ветхозаветный Моисей? Бог или. Или керченский нигилист Караяни? Правда, вскоре этот ниспровергатель изрядно подмочил свою репутацию: обворовал не то казначейство, не то кассу и скрылся с фальшивым паспортом за границу.
Но почему после выстрела Каракозова плакал только один седенький учитель Рещиков? Возможно, лишь он просил у Бога прощения за то, что русский человек хотел убить русского Государя. Старик каялся в то время, как вокруг служили благодарственные молебны. Левушка чувствовал: что-то здесь не так — в день траура благодарить Бога. А это траур — учитель знал: православный по рождению юноша стреляет в Помазанника. Что-то случилось с Россией. Какая-то страшная болезнь вползала в ее имперское сердце. Потому что в семье скромного керченского чиновника Феоктистова рассуждали за вечерним чаем:

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Повесть о рыбаках и их детях из каракалпакского аула Тербенбеса. События, происходящие в повести, относятся к 1921 году, когда рыбаки Аральского моря по призыву В. И. Ленина вышли в море на лов рыбы для голодающих Поволжья, чтобы своим самоотверженным трудом и интернациональной солидарностью помочь русским рабочим и крестьянам спасти молодую Республику Советов. Автор повести Галым Сейтназаров — современный каракалпакский прозаик и поэт. Ленинская тема — одна из главных в его творчестве. Известность среди читателей получила его поэма о В.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.