Вечные ценности. Статьи о русской литературе - [4]
Достоевский во многих отношениях представляет собою кульминационную точку в русской литературе. Странным образом, он не дает нигде изображения того положительного героя, о котором мы говорим выше. Вернее, он не дает его в его простом и химически чистом виде; зато дает массу его разновидностей со всевозможными осложнениями и вариациями в его становлении, разрушении, переломе и т. п. Таковы и Шатов, и Алеша Карамазов, и старец Зосима. Но о них, если говорить вообще, надо поговорить отдельно и более пространно, чем мы можем сделать тут.
Мы пока говорили исключительно о явлениях большой литературы. Творчество ряда наших левых писателей сюда не относится. Но нам хочется вскользь коснуться одной проблемы. Для левой литературы характерно слепое преклонение перед западом. Но в то время, как западные писатели, даже критикуя порядки внутри своей страны, всегда с безусловным почтением говорят об ее культуртрегерской роли в колониях, наши либералы в этих случаях склонны были действовать наоборот. Для Киплинга всякий английский чиновник в Индии герой и сверхчеловек: даже если он пьет, или не прочь соблазнить жену товарища, он всегда искупает это своим героизмом в несении «бремени белого человека». Таким же тоном говорят и Пьер Милль>2 или Клод Фаррер>3 о французских колонизаторах, в действительности, кажется, еще меньше стоящих похвал, чем английские. Для русских «леваков», обычно наблюдавших окраины в положении ссыльных, все чиновники и администраторы были заранее осуждены; они изображаются в виде безнадежных пьяниц, взяточников, тиранов, самодуров и т. д., и т. п. Нельзя не даваться диву, что они тем не менее так много сделали для всех глухих концов России. Своеобразие оценки и ее надежность напоминают нам отрывок из мемуаров известного революционера Зензинова>4. Бежав из ссылки, он выдавал себя за ученого геолога, путешествующего по Сибири с изыскательными целями. Каков был его ужас, когда он однажды обнаружил в исправнике, которому поднес эту историю, геолога-любителя и коллекционера, совершенно сбившего его с толку своими разговорами о предмете, о каковом сам Зензинов имел весьма смутное представление. Мы приводим этот эпизод только для того, чтобы лишний раз напомнить, что многое, очень многое, в массе воспоминаний, очерков, литературных произведений левого лагеря надо принимать cum grano salis>5; в том числе и превосходство авторов по их культурному и моральному уровню надо всеми честными слугами царского правительства.
Продолжая наш анализ основных типов русской литературы, мы без труда обнаружим те же самые два типа и в советской литературе. Некоторые из писателей рисуют их на фоне дореволюционной жизни: Сергеев-Ценский («Севастопольская страда», «Брусиловский прорыв»), В. Шишков («Угрюм-река»»); другие на фоне революции. Так, в «Тихом Доне» Шолохова они даны в рамках одной семьи, Петро Мелехов служит государству с великоросским терпением и стойкостью; никакие ужасы и тяготы войны его не пугают; он мужественно переносит все, а когда его производят в офицеры, принимает это как большую удачу и благодарен за нее Богу и Царю. Приходит революция, и он без труда находит свое место в стане ее противников, и в нем сражается, пока не теряет жизнь. Иное дело его брат Григорий. Его нервную, мятущуюся натуру война сразу надламывает; вид страданий и крови действует на него так, что все идеалы, воспринятые от отца – верность Царю, вера в Бога – рушатся как карточный домик… А тут еще ловкая, вкрадчивая агитация большевиков. Он кидается к красным, но, когда разбирается в них лучше, принужден воротиться в правый лагерь. Здесь он никак не придумает, чем заменить прежнее мировоззрение, бросаясь то к казачьим сепаратистам, то к партизанам махновского типа, и не находит себя до конца романа, хотя и искупает свои ошибки отважной борьбой против коммунистов.
Вспоминаю детские годы, первые образы, какие могу вызвать в памяти, годы НЭПа и последующие за ними… Мой отец на военной службе. Но вечерам у него нередко собираются поболтать и поиграть в карты однополчане, почти сплошь бывшие офицеры, теперь советские командиры. В своей среде они по-прежнему целуют ручки дамам и, когда нет комиссаров, оживают и весело разговаривают на разные темы, как настоящие русские интеллигенты, без осточертевшего шаблона революционной фразеологии. Посейчас помню многие лица, имена… помню и то, как они один за другим исчезали, и как отец или вообще о них больше не говорил, или упоминал, что они арестованы… помню и то, как его несколько раз вызывали на допросы, допытываясь, о чем он говорил, для чего встречался с тем или иным из осужденных «врагов народа», как он, усталый и бледный, морщась, рассказывал про это матери. Среди них, может быть, был и толстовский Вадим Рощин?
Что до Телегина, то трудно ли догадаться, что с ним должно было случиться? Крестный путь русской интеллигенции до сих пор вызывает чувстве боли в моей душе; может быть, отчасти потому, что в детстве и юности, когда впечатления воспринимаются острее, я видел ее страдания, но не сознавал ее вины, ее греха перед старой Россией… Подростком, позже студентом, я уже не удивлялся внезапным исчезновениям знакомых, моих профессоров, сослуживцев и друзей моих родных; страшные еженощные рейды «черного ворона» ни для кого не были секретом. В истреблении интеллигенции Советами была жуткая планомерность. Их мечтою было уничтожить старую интеллигенцию, постепенно заменяя ее по мере возможности новой, фабриковавшейся главным образом из социальных низов и долженствовавшей быть всецело преданной новому режиму. Видя перед собой неизбежную страшную участь, старая интеллигенция, замыкаясь в себе, с ужасом думая о том, что ждет ее детей, ежеминутно была готова к смертельному удару. Но та новая интеллигенция, на которую уповал большевизм, быстро обманула его надежды. Не потому, чтобы она не сумела достигнуть технического уровня старой… но потому, что Советы вскоре распознали в ней такую же лютую ненависть к себе, какой – они знали – горели ученые и специалисты старшего поколения, будь они в прошлом членами Союза Русского Народа или партии эсэров. За процессами «шахтинцев» и «Промпартии» последовали бесконечные процессы, жертвами которых были молодые интеллигенты, воспитанные уже при советском строе. Их обвиняли то в шпионаже, то в буржуазном национализме, то в разного рода вредительстве – их действительная вина была в негодовании против большевизма, которого они не в силах были скрыть. Большевизм, как Хронос, пожирал собственных детей, но не мог – и никогда не сможет – истребить в душе русского народа ни стремления к свободе, ни стремления к справедливому, человеческому порядку.
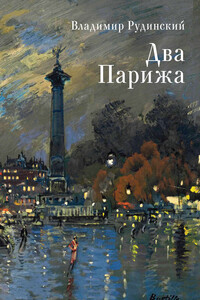
Основу сборника Владимира Рудинского (настоящее имя Даниил Петров; Царское Село, 1918 – Париж, 2011), видного представителя «второй волны» русской эмиграции, составляет цикл новелл «Страшный Париж» – уникальное сочетание детектива, триллера, эзотерики и нравственно-философских размышлений, где в центре событий оказываются представители русской диаспоры во Франции. В книгу также вошли впервые публикуемые в России более поздние новеллы из того же цикла, криминальная хроника и очерки, ранее печатавшиеся в эмигрантской периодике.

Собраны очерки и рецензии Даниила Федоровича Петрова (псевдоним Владимир Рудинский ; Царское Село, 1918 – Париж, 2011), видного представителя «второй волны» русской эмиграции, посвященные литературе Русского зарубежья, а также его статьи по проблемам лингвистики. Все тексты, большинство из которых выходили в течение более 60 лет в газете «Наша Страна» (Буэнос-Айрес), а также в другой периодике русского зарубежья, в России публикуются впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
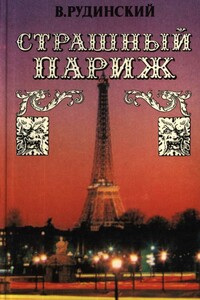
Книга выходца из России, живущего во Франции Владимира Рудинского впервые была издана за границей и разошлась мгновенно. Еще бы, ведь этот уникальный, написанный великолепным языком и на современном материале, «роман в новеллах» можно отнести одновременно к жанрам триллера и детектива, эзотерики и мистики, фантастики и современной «городской» прозы, а также к эротическому и любовному жанрам. Подобная жанровая полифония в одной книге удалась автору, благодаря лихо «закрученному» сюжету. Эзотерические обряды и ритуалы, игра естественных и сверхъестественных сил, борьба добра и зла, постоянное пересечение героями границ реального мира, активная работа подсознания — вот общая концепция книги. Герои новелл «Любовь мертвеца», «Дьявол в метро», «Одержимый», «Вампир», «Лицо кошмара», «Египетские чары» — автор, детектив Ле Генн и его помощник Элимберри, оказываясь в водовороте загадочных событий, своими поступками утверждают — Бог не оставляет человека в безнадежном одиночестве перед лицом сил зла и вершит свое высшее правосудие… В тексте книги сохранена авторская орфография и пунктуация.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
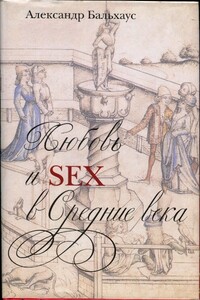
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!