Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... - [34]
Тетка-соседка накормила чем бог послал, и сотрапезники, вернувшись в Дом, легли соснуть.
Мерно и мирно похрапывая, Николай Николаевич спал крепким, необыкновенно приятным сном, пока не учуял запах табачного дыма. Доктор осуждающе причмокнул и этим звуком разлепил свои веки.
– Клятвопреступник! – бросил Усольцев неисправимому курильщику.
Уговорились еще в Колмове: путешественник, путешествуя, очистит авгиевы конюшни, то бишь легкие, от никотина. И вот, пожалуйста.
– И вам не стыдно? – осведомился доктор, спуская ноги на пол и зевая до слез. – Вы же обещали?
– Э, – махнул рукой Успенский, – чего только не наобещаешь, лишь бы на волю выпустили.
Тон был шутливый, однако уподобление земли обетованной тюремному заведению укололо колмовского патриота. В отместку – пусть не впрямую Успенскому, зато в лобовую этой самой «воле» – сказал он не без вызова:
– Укажи мне такую обитель…
Глеб Иванович все так же шутливо польстил панегиристу системы «нестеснения»:
– Ах, Николай Николаевич, кабы ваш тезка-то посетил богоспасаемое Колмово, то, право, указал бы такую обитель.
Усольцев не мог не улыбнуться, но не мог не пустить и другую стрелу.
– «Я не люблю иронии твоей…»
Некрасовское «Я не люблю иронии твоей…» Глеб Иванович цитировал нередко. И еще вот это, для него интимно-трогательное: «Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны».
И теперь уже совсем нешутливо, а как бы искательно, с какой-то беспричинной боязнью отказа, он позвал доктора в Чудовскую луку, от Сябриниц близкую.
В Чудовской луке, рядом с охотничьим домиком, лежал могильный камень, надпись извещала, что под камнем покоится Кадо, черный пойнтер.
Кадо погиб при исполнении служебных обязанностей: его сразила шальная охотничья пуля. Страстен был пойнтер в здешних лесах, на болотах-лединах, а в домашней праздности, в Петербурге, на Литейном, снисходительно-добр.
– Здравствуйте, Кадо, – почтительно говорил Успенский, снимая в гардеробной пальто и калоши. – Здравствуйте, маркиз. – В черном пойнтере угадывалось нечто старофранцузское, аристократическое, гобеленное. Он смотрел на Успенского пегими, философически-печальными глазами. – Вы славный, вы замечательный, – продолжал Успенский, оглаживал длинную жесткую спину пойнтера и трогая подушечками пальцев нежную шелковистость за ушами. – Вы прекрасны, Кадо, но швейцар вашего замка отвратителен.
Внизу, в парадной, состоял в ливрейной должности сивый, плоскомордый холуй. Дока по части обхождения, швейцар делил посетителей на «плюгавых» и «настоящих». Первые, Успенский в том числе, обращались на «вы», вторые – «тыкали».
А Кадо был снисходительно-добр ко всем, кто приходил к Некрасову. Кадо облаял бы только чиновников цензурного ведомства. А это не только простительно, но и похвально. На цензоров не худо было бы напустить и Топтыгина – в углу прихожей скалился бурый медведь; поднявшись на дыбы, Михайло Иваныч опирался на суковатую орясину.
В кабинете Некрасова, в шкапу, стояли охотничьи ружья. Рассказывали: Николай Алексеевич бьет, как бритвой режет. Успенскому казалось, что в лесах, на болотах, на току Некрасов очень похож на Кадо: поджарый, сухой, весь в напряжении.
– Ах, отец, – проговорил Некрасов усталым голосом и жестом показал на кресло. – Ах, отец, да что же это вы за несчастный такой?
– Опять? – встревожился Успенский, подозревая очередную пакость комитетских цензоров.
– Нет. – Некрасов догадался о том, о чем нетрудно было догадаться. – На сей раз бочком, петушком, а проскочили. Ну, есть два, три пассажика, ладно, управимся в четыре руки. Я не о том. Чего это вы, отец мой, казнитесь? Эва, двести десять рублей! Мне в тысячу раз больше вашего должны, так даже и не чешутся. Нет, сейчас зачеркну, и молчите, молчите, пожалуйста!
Ох ты, господи, еще вчера, да, вчера еще Успенский костил Некрасова «плантатором». Стыд-то какой, многие ухмылялись. Потому и «плантатором», что себя-то сознавал чернокожим. Выжимая все соки, на одних гонорарах держат, а надо бы и на жаловании… Ах, Глеб Иванович, Глеб Иванович, будем справедливы, будем справедливы. Да, вот там, в подзеркальном ящике, можно сказать, эльдорады. Однако ведь и расходы огромные. Ну хоть бы на «нужных людей», чтоб журнал-то под откос не пустили. Тошно глядеть, как Николай Алексеевич фальшиво-любезен с «нужными людьми»; тошно слышать, как подсударивает пошлостям «нужных людей». А картеж? Карты тоже, небось, прорву берут. Будем справедливы, Глеб Иванович, будем справедливы… А Некрасов, росчерком пера сняв жернов, висевший на шее этого Глебушки, краснеющего быстро, как южная ольха на срезе, Некрасов говорит уже совсем о другом, и Успенский уже испытывал то состояние, которое заключал в два слова: душа работает.
Душа работала, принимая и перенимая нервную энергию другой души. Не поймешь, на чем она держалась в этой ветхой, изможденной оболочке. Сколько Успенский знал Некрасова, Николай Алексеевич выглядел много старше своих лет. Какая-то запредельная худоба, эта блеклая желтизна почти уже голого черепа, эти ввалившиеся щеки. Казалось, Николай Алексеевич непрестанно зябнет и надо бы поскорее подбросить дров в камин. Но камин и без того пылал, жарко пылал, словно бы в Михайловском, когда Пушкин читал стихи Пущину. Теплый воздух, струясь и голубея, наплывал на картину художника Ге, и картина зыбилась, зыбилась, заслоняясь тоже зыбящейся листвой Петровского парка на окраине Москвы, где сад с беседками и качелями примыкал к «Яру». Половой указал Успенскому комнату: «Пушкинский уголок, сударь». Нет, нет, он не смел жевать пожарскую в «пушкинском уголке», он подальше выбрал закоулок и прежде, чем распорядиться ужином, спросил… ведь, собственно, затем он и пришел в «Яр»… спросил, найдется ли в Соколовском хоре солистка, знающая что-нибудь на слова Некрасова?.. Цыганка была молодая, вся в алом, звенящая, а цыган-гитарист – в вишневом плисовом жилете. Спела она «Родную землю», спела «Не говори, что молодость сгубила», и это было не контральто, пусть и глубокое, не владение голосом, пусть и редчайшее, а нечто бесконечное, как наши пространства, нас же и поглотившие, и такая скорбь, такая бездонная скорбь… Боже ж ты мой, где же исход, где он? Не блеснет ли зарницей эпилог в «Кому на Руси»? Молчал Николай Алексеевич, улыбаясь кротко и коротко, этой улыбкой своей будто умоляя телесную боль отпустить на минуту – рак сводил его в могилу… И, переждав приступ боли, тылом ладони убирая пот со лба, спросил едва слышно: «Эпилог? А вы как думаете – кому вольготно?» Успенский назвал кого-то из семерых временнообязанных. «Ну, что вы, – покачал головой Некрасов и еще тише, раздельно и горестно молвил: – Пья-но-му… Изо всех семи деревень не зарастает тропа в кабак…» Прощался Глеб Иванович, уходил туда, на Литейный, в шум, в город, в непрестанное движение обыденности. Бурый медведь, опираясь на орясину, скалился в углу прихожей. Эх, Топтыгин, ты знавал лучшие дни – видать, так и ломил в новгородских чащобах, и охотник из Чудовской луки, охотник со своим черным пойнтером Кадо тоже знавал лучшие дни…
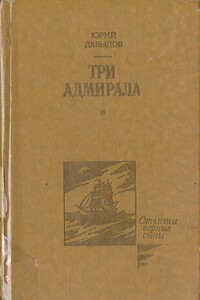
Бурные, драматические судьбы воссозданы в книге «Три адмирала», написанной Юрием Давыдовым, автором исторических повестей и романов, лауреатом Государственной премии СССР.Жизнь Дмитрия Сенявина, Василия Головнина, Павла Нахимова была отдана морю и кораблям, овеяна ветрами всех румбов и опалена порохом. Не фавориты самодержцев, не баловни «верхов», они служили Отечеству и в штормовом океане, и на берегах Средиземного моря, и в японском плену, и на бастионах погибающего Севастополя…Для массового читателя.

Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов.Кубанский Г. Команда осталась на суднеРысс Е. СтрахТоман Н. В созвездии "Трапеции"Ломм А. В темном городеКулешов Ю. Дежурный по городу слушаетГансовский С. Восемнадцатое царствоГансовский С. МечтаОстровер А. Удивительная история, или Повесть о том, как была похищена рукопись Аристотеля и что с ней приключилосьРосоховатский И. Виток историиКальма Н. Капитан Большое сердцеПоповский А. ИспытаниеРысс Е. Охотник за браконьерамиКотляр Ю. “Темное”Давыдов Ю. И попал Дементий в чужие края…Парнов Е., Емцев М.

Очередной сборник «Пути в незнаемое» содержит произведения писателей, рассказывающих о различных направлениях современного научного поиска: математические подходы к проблемам биологической эволюции, будущее мировой энергетики, лесомелиорация в Нечерноземье, истоки нечаевщины в русском революционном движении. Читатель найдет в этой книге воспоминания и очерки об Эйнштейне, Капице, Ландау, рассказ о юности физиолога Павлова, познакомится с историей создания отечественного искусственного алмаза.

«Капитаны ищут путь» — повествование о бескорыстном мужестве открывателей заколдованной дороги из Атлантического океана в Тихий океан, морской дороги, которая зовется Северо-западным проходом.С борта русского брига читатель увидит и плотные заросли тропиков, и мрачные воды залива Коцебу. Следуя за отрядом Джона Франклина, пройдет канадскими дебрями, проберется к устью реки Коппермайн. А потом, стоя у штурвала норвежской яхты, совершит плавание под командой Руаля Амундсена…Загадку Северо-западного прохода решала еще одна экспедиция.
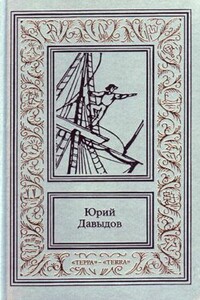
«… Елисеев жил среди туарегов, как Алеко среди цыган.Он сидел с ними у вечерних костров, ел асинко – вкусную кашу, ел мясо, жаренное на углях и приправленное ароматными травами, пил кислое молоко. Он спал в шатрах туарегов и ездил с ними охотиться на страусов.Диву давался Елисеев, когда туарег, даже не склоняясь с седла, по едва приметному, заметенному песком следу определял, сколько верблюдов прошло здесь, тяжела или легка их ноша, спешат погонщики или нет. Диву давался, наблюдая, как туарег рассчитывал направление в пустыне по виду дюн, по полету птицы, по движению облаков… Глаза у туарегов были поистине орлиные.
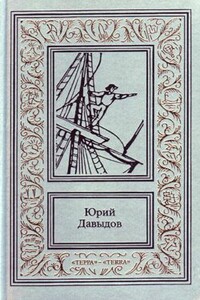
«… В госпитале всегда было людно. Не одних лишь жителей Аддис-Абебы лечили русские медики. С плоскогорий, выглаженных ветрами, из речных долин, пойманных в лиановые тенета, тропами и бездорожьем, пешком и на мулах, в одиночку и семьями сходились сюда северяне тигре и южане сидама, харари из Харара и окрестностей его, амхарцы, самые в Эфиопии многочисленные, и люди из племени хамир, самого, наверное, в стране малочисленного… Разноязыкий говор звучал у стен госпиталя – то богатый гласными, плавный, как колыханье трав на пастбищах, то бурно-восклицающий, как громкий горный ручей, то глухо-гортанный, словно бы доносящийся из душных ущелий.
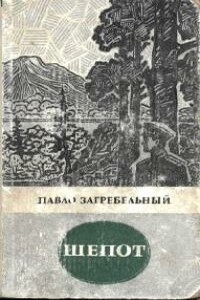
Книга П. А. Загребельного посвящена нашим славным пограничникам, бдительно охраняющим рубежи Советской Отчизны. События в романе развертываются на широком фоне сложной истории Западной Украины. Читатель совершит путешествие и в одну из зарубежных стран, где вынашиваются коварные замыслы против нашей Родины. Главный герой книги-Микола Шепот. Это мужественный офицер-пограничник, жизнь и дела которого - достойный пример для подражания.

В 1815 году Венский конгресс на ближайшее столетие решил судьбу земель бывшей Речи Посполитой. Значительная их часть вошла в состав России – сначала как Царство Польское, наделенное конституцией и самоуправлением, затем – как Привислинский край, лишенный всякой автономии. Дважды эти земли сотрясали большие восстания, а потом и революция 1905 года. Из полигона для испытания либеральных реформ они превратились в источник постоянной обеспокоенности Петербурга, объект подчинения и русификации. Автор показывает, как российская бюрократия и жители Царства Польского одновременно конфликтовали и находили зоны мирного взаимодействия, что особенно ярко проявилось в модернизации городской среды; как столкновение с «польским вопросом» изменило отношение имперского ядра к остальным периферийным районам и как образ «мятежных поляков» сказался на формировании национальной идентичности русских; как польские губернии даже после попытки их русификации так и остались для Петербурга «чужим краем», не подлежащим полному культурному преобразованию.

История борьбы, мечты, любви и семьи одной женщины на фоне жесткой классовой вражды и трагедии двух Мировых войн… Казалось, что размеренная жизнь обитателей Истерли Холла будет идти своим чередом на протяжении долгих лет. Внутренние механизмы дома работали как часы, пока не вмешалась война. Кухарка Эви Форбс проводит дни в ожидании писем с Западного фронта, где сражаются ее жених и ее брат. Усадьбу превратили в военный госпиталь, и несмотря на скудость средств и перебои с поставкой продуктов, девушка исполнена решимости предоставить уход и пропитание всем нуждающимся.
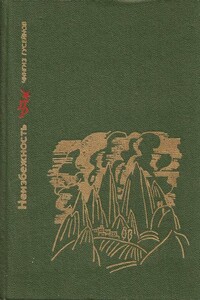
Чингиз Гусейнов — известный азербайджанский прозаик, пишет на азербайджанском и русском языках. Его перу принадлежит десять книг художественной прозы («Ветер над городом», «Тяжелый подъем», «Угловой дом», «Восточные сюжеты» и др.), посвященных нашим дням. Широкую популярность приобрел роман Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш», изданный на многих языках у нас в стране и за рубежом. Гусейнов известен и как критик, литературовед, исследующий советскую многонациональную литературу. «Неизбежность» — первое историческое произведение Ч.Гусейнова, повествующее о деятельности выдающегося азербайджанского мыслителя, революционного демократа, писателя Мирзы Фатали Ахундова. Книга написана в форме широко развернутого внутреннего монолога героя.

История не терпит сослагательного наклонения, но удивительные и чуть ли не мистические совпадения в ней все же случаются. 17 августа 1914 года русская армия генерала Ренненкампфа перешла границу Восточной Пруссии, и в этом же месте, ровно через тридцать лет, 17 августа 1944 года Красная армия впервые вышла к границам Германии. Русские офицеры в 1914 году взошли на свою Голгофу, но тогда не случилось Воскресения — спасения Родины. И теперь они вновь возвращаются на Голгофу в прямом и метафизическом смысле.
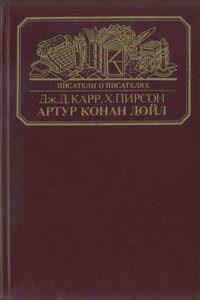
Эта книга знакомит читателя с жизнью автора популярнейших рассказов о Шерлоке Холмсе и других известнейших в свое время произведений. О нем рассказывают литераторы различных направлений: мастер детектива Джон Диксон Карр и мемуарист и биограф Хескет Пирсон.
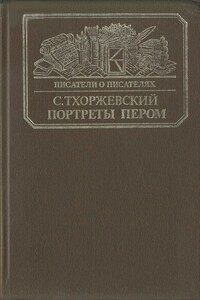
Художественно-документальные повести посвящены русским писателям — В. Г. Теплякову, А. П. Баласогло, Я. П. Полонскому. Оригинальные, самобытные поэты, они сыграли определенную роль в развитии русской культуры и общественного движения.

Первая научная биография выдающегося советского писателя М. А. Булгакова — плод многолетней работы автора. Множество документов, свидетельств современников писателя дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь писателя дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни.Для широкого круга читателей.

Книжная судьба В. Ходасевича на родине после шести с лишним десятилетий перерыва продолжается не сборником стихов или воспоминаний, не книгой о Пушкине, но биографией Державина.Державин интересовал Ходасевича на протяжении всей жизни. Заслуга нового прочтения и нового открытия Державина всецело принадлежит «серебряному веку». Из забвения творчество поэта вывели Б. Садовской, Б. Грифцов.В. Ходасевич сыграл в этом «открытии» самую значительную роль.Читателю, который бы хотел познакомиться с судьбой Державина, трудно порекомендовать более ответственное чтение.
