Вечер на Кавказских водах в 1824 году - [10]
Внизу была подпись всех собеседников того вечера.
– Понимаю, – сказал человек в зеленом сюртуке, значительно нюхнув табаку, – понимаю.
– Этого нельзя и не понять, – прибавил гвардеец, – братец ваш всю эту историю, или, лучше сказать, всю эту басню, видел во сне.
– Во сне! Неужели во сне? – вскричал таинственный человек, обращаясь с вопросом к рассказчику и боясь, чтобы эта прекрасная повесть о мертвецах не превратилась во что-нибудь естественное.
– Брат мой сначала думал то же самое, – возразил драгунский капитан, – покуда между сгибом письма не нашел банкового билета на сто фунтов стерлингов. Вы, я думаю, согласитесь, господин капитан, что хотя в сновидениях нередко даются нам золотые горы, только они разлетаются в дым от одного мига ресниц; но этот сонный клад преспокойно остался у него в кармане.
– Английская штука, – сказал тогда сосед мой, адъютант, – некоторые из моряков легко могли заскакать вперед и сыграть эту драму; воображение дополнило остальное.
– Милостивый государь, – возразил драгун-наездник, нахмурясь и грозно расправляя усы, – брат мой не говорил мне ничего подобного, и я не думаю, чтобы вы имели причину сомневаться в словах моих.
Нечего было спорить против такой убедительной логики, – и все прикусили язычки, готовые уже на разные замечания, не желая из-за мертвых ссориться с живыми.
– Господа! – сказал артиллерист, закуривая трубку, – мне кажется, справедливо бы каждому рассказать какую-нибудь историю, какой-нибудь анекдот из своей или чужой жизни, – это бы помогло нам коротать другие вечера и заключить сегодняшний.
– И еще справедливее, чтобы вы скрепили этот благой совет своим примером, – возразил гвардеец. – Артиллерия должна издали открыть огонь; мы, пехотинцы, будем прикрывать ее. Капитан, как отличный наездник, завязал дело и навел неприятеля на орудия, – теперь ваша очередь.
– Помилуйте, господа, – отвечал артиллерист, отговариваясь от приглашений, – я, право, не приготовился, я принужден буду стрелять холостыми зарядами.
– Тем лучше, что не готовились, – сказал прокурор, – по первым показаниям и по горячим следам скорей доберешься толку.
– Только что-нибудь необыкновенное, – примолвил человек, похожий на запечатанный Соломонов сосуд.
– В таком случае, господа, – произнес артиллерийский ремонтер, окидывая глазами собрание, между тем как грустная улыбка воспоминания изобразилась на его устах, – я расскажу вам истинное приключение моего дяди в Польше, при начале войны конфедератов[22]. Оно так сильно подействовало на его ум, что он постригся в монахи и умер в Белозерском монастыре.
Таинственный человек вытянулся в нитку; все придвинули стулья.
– Думаю, каждый из вас, господа, – начал артиллерист, – слышал рассказы екатерининских служивых об ужасной варшавской заутрене[23]. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайною скрытностию. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные папы вербовали в майонтках[24] своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, – но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома[25] до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности. Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздались они – и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться.
Счастливцами назваться могли попавшие в плен. По всему городу, из конца в конец, раздавался глухой вопль Посполитого Рушенья[26], заглушаемый набатом и выстрелами, между коими гремели тревожные перекаты русских барабанов и замолкали вновь, подавленные криком народным. Резня длилась; смерть в разных образах сторожила русских, – и никому не было пощады. Я знал одного отставного солдата, который в ту пору с пятью товарищами мылся в бане; поляки окружили ее, зажгли, заперли и со свирепою радостию слушали их отчаянные крики. К счастью его, обрушился потолок; он вспрыгнул по пылающим стропилам кверху и, полусожженный, кинулся в Вислу, на берегу которой стояла баня. Другой… Но теперь дело не о других. Дядя мой, кирасирский поручик, находился в этом же корпусе бессменным ординарцем при одном из генералов, – и я прошу позволения познакомить вас с моим дядею покороче. Он имел неоцененное счастие родиться в золотой, патриархальный век русского дворянства в степных деревнях Тамбовской губернии. Строгие понуждения Петра Великого, чтобы недоросли учились и служили с малолетства, грянули там громом, – но давно уже минули, подобно страшному сну, и они безбоязненно катались в невежестве как сыр в масле. Едва мальчик рождался на свет, целое вече родных и соседок собиралось к родильнице, и каждый и каждая, отпустив ей по нескольку приветов один другого старее, один другого глупее, клали под подушку по золотой монете на зубок новорожденному. Затем мамка выносила его самого на подушке, красного как рак, и все с важным видом обступали младенца, щупали, обдували и рассматривали его с большим вниманием и, обыкновенно по старшинству или по звонкости женских голосов, решали: будет ли у него руно или перья? В первом случае, когда младенец мог уже ходить на четвереньках, как прилично столбовому дворянину, – его пускали между телятами и барашками научиться кротости и благонравию. В другом – дожидались времени, когда он мог стоять на двух собственных ножках, и тогда курс его воспитания начинался на птичьем дворе с курами и гусями. Этот род домашнего воспитания, столь близкого к простоте природы, с очень неважными переменами, продолжался обыкновенно до тех пор, покуда несколько неугомонных ревнивых мужей, крестьян, не приходили с жалобами на молодого барчонка. Тогда нежная матушка заключала, хотя и весьма неохотно, что ребенку пора учиться, и давай слать гонцов в Москву за азбукою, а в Петербург за патентом на чин гвардии сержанта. Ни дать ни взять, этот же порядок происшествий соблюден был и с возлюбленным моим дядюшкою. Совет чепчиков решил, что в нем орлиная природа, и, вследствие таких примет, пернатое племя было товарищем его детства, и юность его услаждалась дракою с индейскими петухами. Но у ребенка пробился ус, и Амур со стрелой своей, цирюльник с бритвою и приходский дьячок с указкою явились к нему вдруг – рушители покоя и беспечности. Книга показалась дяде моему медведем, и это впечатление на юные нервы осталось в нем едва ли не на всю жизнь: от книг он вечно бегал, как бес от ладана, – и мать его уверяла, что одна азбука стоила ей целого воза вяземских пряников для утешения испуганного дитяти. Дитя, однако же, одарено было особенного понятливостию, и в два года прошло до четверных складов; но по верхам, вероятно от застенчивости, и на третьем читал он плоховато. Зато уж письмо далось ему. Но линейкам, начерченным обыкновенно углом гребешка, бегло писал он по палочкам, и, не хвастовски сказать могу, слова его походили на фрунт немножко хмельных солдат; но в позднейшие времена, в службе, он еще более наметал руку, и каждая буква его подписи разгульными своими кудрями походила на завитую в семик березку.

«– Куда прикажете? – спросил мой Иван, приподняв левой рукою трехугольную шляпу, а правой завертывая ручку наемной кареты.– К генеральше S.! – сказал я рассеянно.– Пошел на Морскую! – крикнул он извозчику, хватски забегая к запяткам. Колеса грянули, и между тем как утлая карета мчалась вперед, мысли мои полетели к минувшему…».

«Эпохою своей повести избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II; он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sonebref), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанные раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были произвести в партии рижской желание обессилить врагов потаенными средствами…».

В книгу русского писателя-декабриста Александра Бестужева (Марлинского) (1797–1837) включены повести и рассказы, среди которых «Ночь на корабле», «Роман в семи письмах», «Наезды» и др. Эти произведения насыщены романтическими легендами, яркими подробностями быта, кавказской экзотикой.

«Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров, скрып колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана... Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились вкруг огонька пить чай...».

В книге представлены произведения А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, А. А. Бестужева-Марлинского, В. И. Даля, К. М. Станюковича, И. А. Бунина и других русских писателей XVIII — начала XX века, отразивших в художественной форме историю превращения России в морскую державу.

«Была джума, близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удальства. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги…».

О северных рубежах Империи говорят разное, но императорский сотник и его воины не боятся сказок. Им велено навести на Севере порядок, а заодно расширить имперские границы. Вот только местный барон отчего-то не спешит помогать, зато его красавица-жена, напротив, очень любезна. Жажда власти, интересы столицы и северных вождей, любовь и месть — всё свяжется в тугой узел, и никто не знает, на чьём горле он затянется.Метки: война, средневековье, вымышленная география, псевдоисторический сеттинг, драма.Примечания автора:Карта: https://vk.com/photo-165182648_456239382Можно читать как вторую часть «Лука для дочери маркграфа».

Москва, 1730 год. Иван по прозвищу Трисмегист, авантюрист и бывший арестант, привозит в старую столицу список с иконы черной богоматери. По легенде, икона умеет исполнять желания - по крайней мере, так прельстительно сулит Трисмегист троим своим высокопоставленным покровителям. Увы, не все знают, какой ценой исполняет желания черная богиня - польская ли Матка Бозка, или японская Черная Каннон, или же гаитянская Эрзули Дантор. Черная мама.
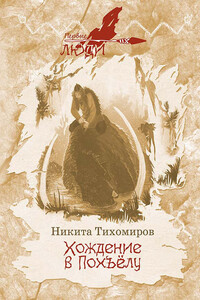
Похъёла — мифическая, расположенная за северным горизонтом, суровая страна в сказаниях угро-финских народов. Время действия повести — конец Ледникового периода. В результате таяния льдов открываются новые, пригодные для жизни, территории. Туда устремляются стада диких животных, а за ними и люди, для которых охота — главный способ добычи пищи. Племя Маакивак решает отправить трёх своих сыновей — трёх братьев — на разведку новых, пригодных для переселения, земель. Стараясь следовать за стадом мамонтов, которое, отпугивая хищников и всякую нечисть, является естественной защитой для людей, братья доходят почти до самого «края земли»…

Человек покорил водную стихию уже много тысячелетий назад. В легендах и сказаниях всех народов плавательные средства оставили свой «мокрый» след. Великий Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» пишет о кораблях и мореплавателях. И это уже не речные лодки, а морские корабли! Древнегреческий герой Ясон отправляется за золотым руном на легендарном «Арго». В мрачном царстве Аида, на лодке обтянутой кожей, перевозит через ледяные воды Стикса души умерших старец Харон… В задачу этой увлекательной книги не входит изложение всей истории кораблестроения.

Слово «викинг» вероятнее всего произошло от древнескандинавского глагола «vikja», что означает «поворачивать», «покидать», «отклоняться». Таким образом, викинги – это люди, порвавшие с привычным жизненным укладом. Это изгои, покинувшие родину и отправившиеся в морской поход, чтобы добыть средства к существованию. История изгоев, покинувших родные фьорды, чтобы жечь, убивать, захватывать богатейшие города Европы полна жестокости, предательств, вероломных убийств, но есть в ней место и мрачному величию, отчаянному северному мужеству и любви.
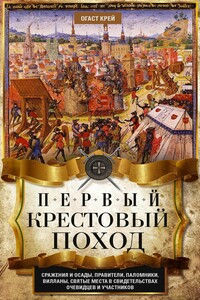
Профессор истории Огаст Крей собрал и обобщил рассказы и свидетельства участников Первого крестового похода (1096–1099 гг.) от речи папы римского Урбана II на Клермонском соборе до взятия Иерусалима в единое увлекательное повествование. В книге представлены обширные фрагменты из «Деяний франков», «Иерусалимской истории» Фульхерия Шартрского, хроники Раймунда Ажильского, «Алексиады» Анны Комнин, посланий и писем времен похода. Все эти свидетельства, написанные служителями церкви, рыцарями-крестоносцами, владетельными князьями и герцогами, воссоздают дух эпохи и знакомят читателя с историей завоевания Иерусалима, обретения особо почитаемых реликвий, а также легендами и преданиями Святой земли.