ВЧК в ленинской России, 1917–1922: В зареве революции - [3]
В Америке историки считают, что название тайной организации ультраправых и белых расистов ку-клукс-клан не имеет фонетической расшифровки, а лишь имитирует звук движения винтовочного затвора. Создателей ленинской ЧК эти исследователи могли заподозрить в таком же принципе выбора названия для своей службы, созвучного то ли щелчку курка, то ли названию чеки от гранаты. Хотя, вероятно, Дзержинский и его товарищи зимой 1917 года о таких тонкостях, так же как об увековечении на долгие годы слова «чекист», не задумывались, слишком много у них было более практических и неотложных проблем. Скорее всего, в новом названии большевиков привлекала его непохожесть на старорежимные отделения, канцелярии и департаменты из истории тайного сыска Российской империи. Есть сведения, что при определении названия спецслужбы советской власти в декабре 1917 года кто-то из большевистской верхушки предлагал назвать людей Дзержинского «революционными центурионами», но броское название было отвергнуто большинством за древнеримскую старорежимность, и тут в дискуссии прозвучало революционно-зловещее – «чека». Позднее белогвардейцы и белоэмигранты, не склонные к большевистской привычке все сокращать в аббревиатуры, так и писали это слово как имя собственное – «Чека», да еще и склоняли его по русским правилам: «Забрали в Чеку, бежал из Чеки» и так далее.
В отличие от той же системы политического сыска последних лет романовской империи, где самые главные спецслужбы – охранка и Департамент полиции – входили в систему имперского МВД, ленинцы сразу же свою первую спецслужбу от системы внутренних дел четко отсекли. Наркомат внутренних дел Советской России на правах отдельного министерства был также создан в конце 1917 года, его возглавил опытный деятель большевистской партии Петровский, но Дзержинский с первых дней работы ЧК демонстрировал полную независимость от первого советского МВД, делая это зачастую демонстративно. При этом чекисты с первых дней существования своего ведомства негласно считали ЧК службой, стоящей в государственном аппарате выше Наркомата внутренних дел и занимающейся гораздо более важной для страны задачей. Это закладывало на долгие годы мину замедленного действия в связи с не всегда здоровой конкуренцией органов госбезопасности и внутренних дел, такая тенденция затем просуществовала практически до конца советской власти.
Еще одним знаковым символом с первых дней работы всероссийской ЧК стал также принципиально отстаиваемый Дзержинским принцип отчуждения чекистской службы от органов советской юстиции и прокуратуры. Изначально, в конце 1917 года, этого требовали и политически-партийные соображения. Тогда большевики еще временно делили власть с партией левых эсеров, а именно в первом советском Наркомате юстиции наблюдалось в те месяцы засилье эсеровских кадров, и наркомом юстиции был тогда член партии левых эсеров Штейнберг. Руководство Наркомата юстиции тщетно добивалось у Ленина права официального надзора за деятельностью первой большевистской спецслужбы, просило даже предоставить им право санкционировать аресты чекистов, как это принято сейчас в большинстве стран Европы. Уже в канун нового, 1918 года у Дзержинского со Штейнбергом случился по этому поводу первый острый конфликт, когда нарком юстиции потребовал освободить арестованных ЧК членов Союза защиты Учредительного собрания, а глава чекистов в резкой форме ему отказал. Помимо того, чекисты не допускали представителей ведомства юстиции с проверками в места содержания арестованных их службой граждан. Тогда конфликт стал предметом отдельного разбирательства в советском правительстве – Совнаркоме – и потребовал опять личного вмешательства Владимира Ильича Ленина. Ленин, естественно, занял сторону Дзержинского, а не откровенно полагаемых им лишь как «временных попутчиков» левых эсеров из Наркомата юстиции. И очень скоро отрыв ЧК от органов юстиции был оформлен законодательно: в декабре 1917 года постановление Совнаркома подтвердило, что ЧК будет органом внесудебной расправы с контрреволюцией, а «любые изменения постановлений комиссии Дзержинского допустимы только путем обжалования их в Совнаркоме, а никоим образом не распоряжением наркома юстиции». Этот документ ленинского Совнаркома на долгие десятилетия задал курс на действия советских спецслужб параллельно органам юстиции и прокуратуры или даже временами наперекор им.
Все эти прения закончились в июле 1918 года с изгнанием левых эсеров из правительства, а соответственно и из всех советских органов власти и управления. Но установленная тогда руководством ЧК дистанция от ведомства юстиции сохранилась, и эта продолжавшаяся затем долгие годы тенденция стала в истории этой спецслужбы еще одной миной замедленного действия.
Все эти месяцы недолгого романа партии Ленина с левыми эсерами большевики-чекисты были вынуждены уживаться внутри своей молодой спецслужбы с коллегами-эсерами. По договоренности между этими партиями в ЧК была установлена особая квота для членов партии левых эсеров, многие из которых имели дореволюционный опыт террористической работы. Как, впрочем, имели его и некоторые чекисты из правоверных ленинцев и членов его РКП(б) – в истории тайного сыска в России впервые в тайной полиции появлялось такое количество вчерашних подпольщиков, террористов и каторжан, но с 1917 года в России многое происходило впервые и никого не удивляло. Первым заместителем Дзержинского в ЧК согласно тем же договоренностям с эсерами в Совнаркоме был в январе 1918 года назначен член ПСР(л) Александрович. В главной коллегии ВЧК, а таковая была создана при председателе этой структуры Дзержинском в ознаменование культового тезиса большевиков о коллегиальном управлении, Александрович был единственным эсером. Остальные члены коллегии – сам Дзержинский, Менжинский, Петерс, Ксенофонтов, Щукин, Фомин, Яковлев, Жиделев – все являлись большевиками. Кроме Александровича поначалу (с конца 1917 года) заместителями Дзержинского в первом составе коллегии ВЧК были Яковлев и Жиделев, хотя эти фамилии в нашей истории сейчас мало кто помнит, но в начале 1918 года их сменили Петерс и Ксенофонтов. Чуть позднее кроме Александровича от ПСР(л) в коллегию ВЧК введут Закса, и тоже на должность заместителя Дзержинского, но после эсеровского мятежа летом 1918 года даже перешедшего в партию большевиков Закса из зампредов уберут, хотя в рядах ЧК оставят.
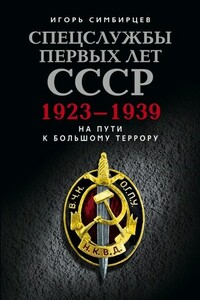
В своей книге Игорь Симбирцев прослеживает историю советских спецслужб периода, который уложился между двумя войнами: Гражданской и Великой Отечественной. Автор открывает малоизвестные детали нашумевших операций этого времени, обнажая механизм «создания» новых антисоветских организаций: «Синдикат-2», «Трест» и т. д. Описывает репрессии ГПУ против православной церкви и вереницу странных, овеянных слухами смертей – Ленина, Фрунзе, Котовского, Аллилуевой, Крупской и многих других известных людей. Тридцатые годы в истории ГПУ, а затем и НКВД СССР поделили страну на еще относительно «мирные» 1930–1936 годы и наступившее вслед за ними время больших репрессий 1937–1939 годов.
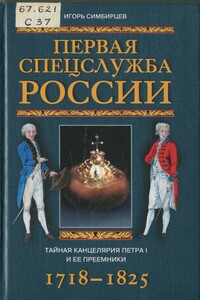
Книга посвящена зарождению в России спецслужб — скрытых механизмов обеспечения государственной власти. Повествование начинается со времен опричнины и продолжается описанием Тайного приказа Алексея Михайловича, Тайной канцелярии Петра I и Екатерины II, Тайной экспедиции Павла I и Особой канцелярии Александра I. Автор рассказывает о формировавших и возглавлявших их ярких и неоднозначных фигурах — Иване Грозном, Петре Толстом, коварном после-разведчике Бестужеве.
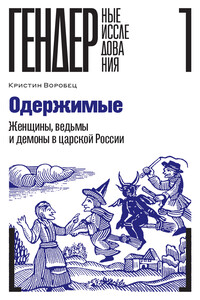
Одержимость бесами – это не только сюжетная завязка классических хорроров, но и вполне распространенная реалия жизни русской деревни XIX века. Монография Кристин Воробец рассматривает феномен кликушества как социальное и культурное явление с широким спектром значений, которыми наделяли его различные группы российского общества. Автор исследует поведение кликуш с разных точек зрения в диапазоне от народного православия и светского рационализма до литературных практик, особенно важных для русской культуры.
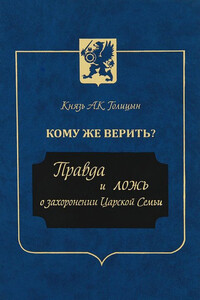
2013-й год – юбилейный для Дома Романовых. Четыре столетия отделяют нас от того момента, когда вся Россия присягнула первому Царю из этой династии. И девять десятилетий прошло с тех пор, как Император Николай II и Его Семья (а также самые верные слуги) были зверски убиты большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в разгар братоубийственной Гражданской войны. Убийцы были уверены, что надёжно замели следы и мир никогда не узнает, какая судьба постигла их жертвы. Это уникальная и по-настоящему сенсационная книга.
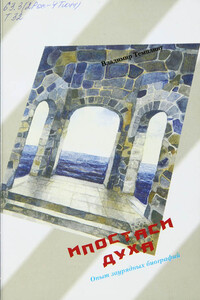
В книге повествуется о жизненных путях четырёх типичных для сибирского социального пейзажа фигур: священника-миссионера П. А. Попова, крестьянина, ставшего купцом-предпринимателем, Н. М. Чукмалдина, чиновника и одновременно собирателя фольклора П. А. Городцова, ссыльного религиозного оппозиционера П. В. Веригина, живших примерно в одно время (XIX – начало XX в.) – в бурную эпоху буржуазной модернизации. Их биографии – пример различных вариантов разворачивания жизненного пути на переходном этапе развития общества.Книга предназначена для историков, краеведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории края.
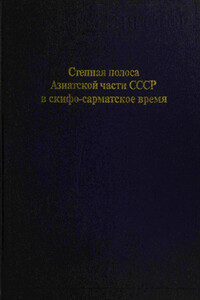
Том посвящен кочевникам раннего железного века (VII в. до н. э. — IV в. н. э.), населявшим степи Азии от Урала до Забайкалья. В основу издания положен археологический материал, полученный при раскопках погребальных и бытовых памятников. Комплексный анализ археологических источников в совокупности со сведениями древних авторов позволил исследователям реконструировать материальную и духовную культуру древних кочевников, дать представление об их хозяйстве, общественном строе, взаимоотношениях с окружающим оседлым населением, их экономическом развитии.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.