Вчера, сегодня и завтра русской поэзии - [3]
Затяжка войны привела, в области поэзии, к некоторому отрезвлению. В 1916 г. литературное небо прояснилось; стали вновь появляться книги стихов, привлекавшие внимание разрешением художественных заданий (таковы, напр., «Оксана» Н. Асеева, «Простое, как мычание» Вл. Маяковского, «Поэзия Армении», «Альманах Муз», последовавший вскоре сборник «Поверх барьеров» Б. Пастернака и др.). Но быстро надвигались сначала черные месяцы начала 1917 г., когда русскому слову стало «не до стихов» (выражение Тютчева), потом – две революции со всеми их неизбежными, но тяжелыми следствиями для внешних проявлений поэтической жизни. Февраль 1917 г. был по плечу большинству наших поэтов, побудив «певцов» быстро настроить свои лиры на лад «свобода – народа» и затопил было журналы и газеты такими же стихотворными клише, как и начало войны. Но Октябрь был для многих, и очень многих, как бы ударом обуха по голове. Голоса, обычные в нашей поэзии, примолкли. А затем, с замираньем всей вообще художественной жизни в России, затихла и русская поэзия в ее целом, как живой организм, состоящий из разных клеток. Слабо пульсировали лишь некоторые из них.
В первые годы после Октябрьской революции перед новой Россией, перед РСФСР стояли задачи, вне всякого сомнения, безмерно более настоятельные, безмерно более неотложные, чем забота о нормальном развитии поэзии. В период войны внешней, где скрытым образом против нас были чуть ли не вся Европа и Америка, в период борьбы гражданской, когда на карту ставилось самое бытие Советской республики, в период закладывания первых основ нового строя – все должно было далеко отступить перед вопросами, выдвигаемыми ходом общественной жизни и политики. Великая идея диктатуры пролетариата диктовала совершенно определенную тактику. Эпоха была такая, что поэзия должна была безмолвствовать.
Больше трех лет дальнейшая эволюция русской поэзии совершалась как бы в подполье, почти незримо для широких читательских кругов. Прекратили свое существование те старые литературные журналы, со страниц которых читатель прежнего времени обычно знакомился с новыми явлениями поэзии (по самим произведениям или по критическим отзывам). Новых журналов, которые печатали бы стихи, возникало мало, и большею частью они прекращались на одном из первых выпусков, да и не получали распространения, в силу разрухи транспорта. Закрылось, временно или навсегда, и большинство прежних книгоиздательств, в одну из первых очередей – именно чисто литературные. Одно время – конец 1919 и 1920 гг. – приостановилось было самое печатание книг, даже не только художественно-литературных, вследствие отсутствия бумаги.
Издательства, основываемые при разных правительственных органах, принуждены были поэтому очень скупо давать место изданиям художественным, тем более – стихам, а изданные книги подвергались той же участи, как выпуски журналов: они расходились лишь в том городе, где были изданы. Центральное Государственное Издательство тоже могло уделять стихам только скудные обрывки бумаги, которой не хватало на газеты, на учебники и на агитационные издания. Новая книга стихов стала явлением редкостным, тогда как в предвоенное время, в среднем, в России выходило их до 30 в месяц, т. е. по сборнику стихов в день. Доходило до того, что появлялись в продаже издания рукописные, возвращавшие к эпохам до XV столетия!
А между тем поэты всех направлений, всех прежде существовавших и зарождавшихся тогда «школ», продолжали писать и писать усердно, и к ним присоединялись все новые и новые отряды молодых дебютантов. Полки шкапов даже Госиздата загромождались купленными рукописями стихов, хотя авторы их и предупреждались, что издание стихов может пойти лишь в последнюю очередь. Во все учреждения, связанные с литературой, как Пролеткульты, отделы Лито Наркомпроса и др. издательские отделы всех ведомств, даже Наркомзема, редакции всевозможных, хотя бы технических, временников, правления театров и тому под., – всюду почта заносила тетради со стихами. Сколько таких тетрадок, тем или иным путем, попадало в руки любого, сколько-нибудь заметного писателя! Где только открывалась «литературная студия», – а одно время открывалось их довольно много, – тотчас ее заполняли начинающие стихотворцы. И 1922 год, когда началось спешное отпечатывание всего написанного в предшествующие годы, – этот 22 год доказал, что действительно много сочинялось стихов в то пятилетие, когда русская поэзия, казалось, в ее целом безмолвствует!
Конечно, это молчание русской поэзии было неполное. Во-первых, имели голос пролетарские поэты. Без сомнения, они тоже испытывали все затруднения от недостатка бумаги, от разрухи транспорта, многие их произведения оставались в столах авторов, но все-таки Пролеткульты довольно охотно издавали сборники стихов, и существовал ряд журналов, где печатались стихи пролетарских поэтов. Рядом с этим, в отдельных случаях, выходили из печати и стихи поэтов иных течений; около 1919 г. – ряд изданий «Алконоста», со стихами петербургских символистов; в 1920–1921 гг. целая серия книжек имажинистов; футуристами кое-что было издано в Тифлисе в 1919–1920 гг. и т. п. Кроме чисто пролетарских, возникали изредка и общелитературные временники: одно время «Москва», потом вышло два выпуска «Художественного слова» (при Лито Наркомпроса); «Творчество» и некоторые другие журналы приоткрывали свои страницы и не только для пролетарских поэтов; в провинции (Ковров) выходил «Рассвет» и т. д. Все же если-бы кто-нибудь захотел составить понятие о жизни русской поэзии в 1917–1920 гг. по печатным изданиям, он получил бы картину до крайности неполную. Отсутствовали бы многие значительные вещи пролетарских поэтов, тогда уже написанные, но изданные лишь позже; не было бы длинного ряда книг символистов и футуристов, тщетно искавших пути в типографию; совсем не были бы представлены поэты начинающие, поскольку они не могли войти в число пролетарских, и т. д.

«…В молодости Валерий Брюсов испытывал влияние французского символизма – литературного направления, представленного великими именами Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо. Ощущение трагического несовершенства окружающей действительности, стремление осознать и выразить связи между реальным и невидимым миром, острое чувство одиночества и тоски были близки настроениям многих русских поэтов рубежа XIX–XX веков. Однако с той же силой в творчестве Брюсова выразилась жажда оторваться от унылой реальности, заявить о себе как о незаурядной личности в бурном и требующем перемен мире…».
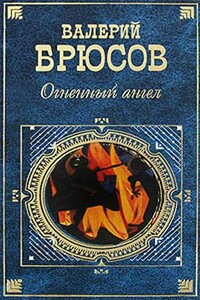
Один из самых загадочных русских романов ХХ века, «Огненный ангел» Валерия Брюсова – одновременно является автобиографическим, мистическим и историческим. «Житие» грешников – оккультистов, жаждущих запредельных знаний, приводит их либо к мученической смерти, либо к духовной опустошенности, это трагический путь Фауста, но в какой-то мере это и путь нашей цивилизации.
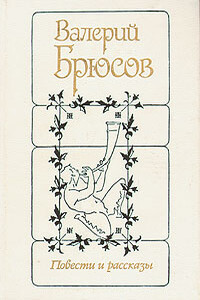
Долгие годы мужчину и женщину связывала нежная и почтительная дружба. Но спустя пятнадцать лет страсть вырвалась из оков…http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лекция, читанная автором в Москве, 27 марта 1903 г., в аудитории Исторического музея, и 21 апреля того же года, в Париже, в кружке русских студентов.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.