Василий Теркин - [4]
Мы его тогда маленько подтянем, — прибавил Теркин и подмигнул. — Вам его история известна?
— Как же!
— Где-то я читал, что московский старец, Михаил Петрович Погодин, любил говорить и писать: "так, мол, русская печь печет". Студент медицины… потом угодил как-то в не столь отдаленные места, затем сделался аптекарским гез/елем. А потом глядь — и капитан, по Волге бегает!
Он подметил взгляд писателя, когда произносил имя Погодина и делал цитату из его изречений. В этом взгляде был вопрос: какого, в сущности, образования мог быть его собеседник.
— Вот ведь и ваш покорный слуга — на линии теперь судохозяина, а чем не перебывал? И к чему готовился?
Попал в словесники, классическую муштру проходил.
— Вы-то?
— А то как же! Приемный-то отец мой от своих скудных достатков в гимназии меня держал. Ну, урочишки были. И всю греческую и латинскую премудрость прошел я до шестого класса, откуда и был выключен…
— Исключили? За что? стр.16
— Долго рассказывать. А для вас, как для изобразителя правды… занятно было бы. Да Андрей Фомич, поди, совсем истерзался?..
— Вы бы пошли с нами посидеть.
— Каютишка-то у него всего на полтора человека. А я — мужик крупный. Я подожду здесь, на прохладе. И без того безмерно доволен, Борис Петрович, что привелось с вами покалякать.
Из-за рубки показалась опять дюжая фигура капитана.
— Пожалуйте! Борис Петрович!
— Иду, иду!
Писатель заторопился, но успел подать Теркину руку и еще раз пригласил его.
— Нет, уж вы там вдвоем благодушествуйте. Места нет, да я и плохой чаепийца, даром что нас водохлебами зовут.
Его тянуло за Борисом Петровичем, но он счел бестактным нарушать их беседу вдвоем. Ни за что не хотел бы он показаться навязчивым. В нем всегда говорило горделивое чувство. Этого пистоля он сердечно любил и увлекался им долго, но «лебезить» ни перед кем не желал, особливо при третьем лице, хотя бы и при таком хорошем малом, как Кузьмичев. Через несколько недель капитан мог стать его подчиненным.
Теркин прошелся по палубе и сел у другого борта, откуда ему видна была группа из красивой блондинки и офицера, сбоку от рулевого. Пароход шел поскорее. Крики матроса прекратились, на мачту подняли цветной фонарь, разговоры стали гудеть явственнее в тишине вечернего воздуха. Больше версты «Бирюч» не встречал и не обгонял ни одного парохода.
Все та же родная река тянулась перед ним, как будто и богатая водой, а на деле с каждым днем страшно мелеющая, Теркин не рисовался в разговоре с Борисом Петровичем. У него щемит в груди, когда он думает о том, что может статься с великой русской рекой через десять, много двадцать лет. Это чувство, как и жалость к лесу, даже растет в нем, — нужды нет, что он "на линии" пароходчика. Отопление мечтает он завести у себя нефтяное. Нефти еще целая уйма, хоть и с ней обходятся хищнически, как со всем, что только можно обращать в деньги.
И досада начала разбирать его на то, что капитан помешал их разговору, да и сам он не так направил стр.17 беседу с Борисом Петровичем. Ему хотелось поисповедоваться, раскрыть душу не по одному вопросу о крестьянстве, показать себя в настоящем свете, без прикрасы, выслушать, быть может, и приговор себе. А так он мог показаться хвастуном, «рисовальщиком», как он называл всех, кто чем-нибудь рисуется. Все, что он про себя сказал, была правда. Да, он мужицкого рода, настоящий крестьянский сын, подкидыш, взятый в дом к «смутьяну», Ивану Прокофьеву Теркину, бывшему крепостному графов Рощиных, владельцев половины села
Кладенца.
А почему же он, три часа назад, когда останавливались у
Кладенца, даже и с палубы не сошел? Должно быть, сердце-то у него не екнуло при виде красивого села, на нескольких холмах, с его церквами и монастырем, с древним валом, где когда-то, еще при татарах, был княжеский стол? Он в это время лежал на диване своей каюты, предоставленной ему от товарищества, как будущему пайщику, и только сквозь узкие окна видел полосу берега, народ на пристани, два-три дома на подъеме в гору, часть рядов с
"галдарейками", все — знакомое ему больше двадцати пяти лет.
Да, его не потянуло и на палубу. Он не любит своего села и давно не любил, с той самой поры, как стал понимать, что вокруг него делается. Своего названого отца он считал "праведником", — нужды нет, что местные вожаки, которые потрафляли неосмысленной
"голытьбе" и спаивали ее, обзывали Ивана Теркина кулаком, сторонником скупщиков и врагом мира. Он до сих пор не может простить этому миру ссылки своего отца,
— тому стукнуло тогда шестьдесят два года, — по приговору сельского общества, самого гнусного дела, какое только он видел на своем веку; и на него пошли мужики! И пошли на такое дело небось не раскольники, живущие в Кладенце особым обществом, также бывшие крепостные другого барина, а православные хресьяне, те самые, что ставят пудовые свечи и певчих содержат на мирские деньги, нужды нет, что половина их впроголодь живет. Не заедет он по доброй воле в Кладенец, и сделайся он миллионщиком, ни алтына не даст на нужды мира тому сельскому обществу, что собирает сходки в старинном барском флигеле, до сих пор известном под прозвищем "графского приказа". стр.18

«День 22-го августа 1883 года, который сегодня вся истинно грамотная Россия вспоминает с сердечным сокрушением, не мог не вызвать в нас, давно знавших нашего великого романиста, целого роя личных воспоминаний…Но я не хотел бы здесь повторять многое такое, что мне уже приводилось говорить в печати и тотчас после кончины Ивана Сергеевича, и в день его похорон, и позднее – в течение целой четверти века, вплоть до текущего года, до той беседы с читателями, где я вспоминал о некоторых ближайших приятелях Тургенева, и литературных и, так сказать, бытовых…».

«К какой бы национальности ни принадлежал человек, будь он хоть самый завзятый немецкий или русский шовинист, он все-таки должен сознаться, приехавши в Париж, что дальше уже некуда двигаться, если искать центр общественной и умственной жизни. Мне на моем веку приходилось нередко видеть примеры поразительного действия Парижа на людей самых раздраженных, желчных и скучающих. В особенности сильно врезалось в память впечатление разговора с одним из наших выдающихся литературных деятелей, человеком не молодым, болезненным, наклонным к язвительному и безотрадному взгляду на жизнь.

«Прямо против моих окон в той вилле, где я живу на водах, через полотно железной дороги вижу я сдавленный между двумя пансионами домик в швейцарском вкусе. Под крышей, из полинялых красноватых букв, выходит: „Pavilion Monrepos“…».

Более полувека активной творческой деятельности Петра Дмитриевича Боборыкина представлены в этом издании тремя романами, избранными повестями и рассказами, которые в своей совокупности воссоздают летопись общественной жизни России второй половины XIX — начала ХХ века.Во второй том Сочинений вошли: роман «Китай-город» и повесть "Поумнел".

Более полувека активной творческой деятельности Петра Дмитриевича Боборыкина представлены в этом издании тремя романами, избранными повестями и рассказами, которые в своей совокупности воссоздают летопись общественной жизни России второй половины XIX - начала ХХ века. В третий том Сочинений вошли: роман "Василий Теркин" и повесть "Однокурсники".

«Мое личное знакомство с Л. Н. Толстым относится к пятилетию между концом 1877 года (когда я переехал на житье в Москву) и летом 1882 года.Раньше, в начале 60-х годов (когда я был издателем-редактором „Библиотеки для чтения“), я всего один раз обращался к нему письмом с просьбой о сотрудничестве и получил от него в ответ короткое письмо, сколько помнится, с извинением, что обещать что-нибудь в ближайшем будущем он затрудняется…».
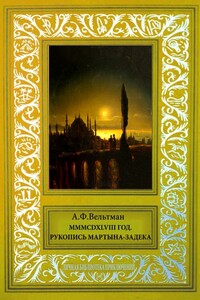
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
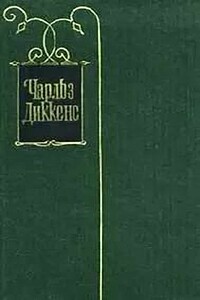
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
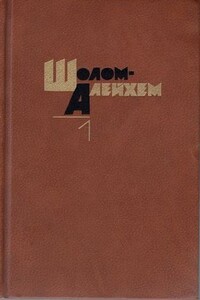
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.