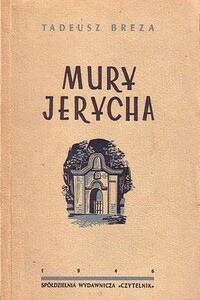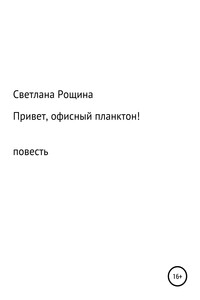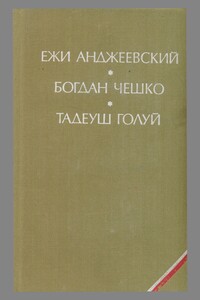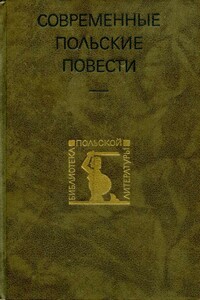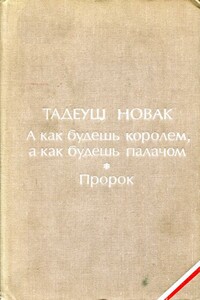Мало-помалу я все-таки прихожу в себя. В последний раз пересекаю площадь перед дворцом Канчеллерия. Снова бар. Снова кофе. Обязательное такси. Опускаю стекло. Струя воздуха, хоть и теплого, освежает меня, действуя, как вентилятор. Подъезжаю к пансионату уже с просветлевшей головой. Скоро час. Я еще поспею на поезд в два пятнадцать. От обеда отказываюсь. Я не в состоянии ничего проглотить. Разворачиваю пакет с книгами. Все кладу теперь на дно чемодана. Монография о святой Катерине выскальзывает у меня из рук. Я поднимаю ее с пола и тоже запихиваю вниз. Вещи укладываю спокойно. Уже с более ясной головой подвожу итог событиям за месяц пребывания в Риме. Я приехал сюда прежде всего ради отца, а попутно и ради себя. Я не добился ничего. Не решил научной проблемы, которую, как мне кажется, вскоре решат и без моего участия. Отец мой не будет исполнять в Тарнове те самые обязанности, которые ему не дозволено исполнять в Торуни. Не думаю, чтобы при сложившихся обстоятельствах, и особенно в его возрасте, он решился бы покинуть свой город. Вот итог достижений в этом порочном круге!
Наконец чемодан уложен. В пансионате нет никого, кроме Рогульской. Мы прощаемся в ее комнате. Пожилая дама с благородным профилем и большими мрачными глазами — когда-то она, вероятно, была красива — протягивает мне бескровные тонкие пальцы. Силуэт ее вырисовывается на фоне стены, сплошь увешанной фотографиями города, покинутого ею двадцать лет назад. Снимки эти — ее музей. Она взволнована тем, что я уезжаю в Польшу, и держится несколько патетически. Просит, чтобы я «передал привет нашим общим знакомым и поклонился незнакомой родине». Целую ей руки и еще раз благодарю. Все вместе отнимает у меня немного больше времени, чем я предполагал. Но все-таки мне удается поспеть к поезду. Чемодан кидаю в сетку, встаю у открытого окна — и в конце концов пускаюсь в обратный путь. Невзирая ни на что, я, как и решил, разобью этот путь на этапы. И, значит, еще сегодня побываю в Орвьето, переночую в Орсино, завтра с утра осмотрю город, пошлю открытку Пиоланти, письмо отцу, а в двенадцать двинусь дальше.