В тупике - [18]
Гусар враждебно смотрел на нее.
– Да ведь это все сказки! Как вы им верите!
Высокий устало отозвался:
– Нет, так бывает.
– Да ведь это же хуже большевиков!
– Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.
– Сдавшихся!
– А они не так?
– Ну, и как на душе у вас?
Высокий усмехнулся.
– Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.
Замолчали. Катя сказала:
– Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.
Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.
– А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками…
Катя весело всплеснула руками.
– Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!
Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:
– Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.
Высокий усмехнулся.
– А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем, – заплатили мы за него?
Гусар заговорил взволнованно:
– Вы говорите – в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке… Расстреливать буду, жечь, пытать, – все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, – поползу, зубами буду стрелять!
Высокий задумчиво курил папиросу.
– У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по нескольку человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров… Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.
Катя воскликнула:
– Зачем же вы тогда остаетесь?!
Гусар быстро поднял голову.
– То есть как это?
Высокий безнадежно махнул рукою.
– Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, – поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. – Он показал свои мозолистые руки. – У меня своего – вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.
Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:
– Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.
– Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, – сказал гусар.
Вошел профессор с письмом.
– А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?
– Нет.
Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катею.
– Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! – говорил он. – Как мы до сих пор не сошли с ума!
Катя украдкою быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:
– Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?
– Да.
– Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!
Офицер медленно покачал головой.
– Нет, ничего не стану говорить.
И, не прощаясь, пошел к двуколке.
Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.
– Господи, какие у этого рыжего глаза! Какие пустые дырки! – Она нервно повела плечами. – Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытать будет, и застрелит, если кто уйдет, – все!
Профессор растерянно усмехнулся.
– Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!
– Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, – сказала Катя.
Профессор изумился.
– Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?
Наталья Сергеевна радостно слушала.
– Проберусь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!
Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашнею его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, – крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

В 1901 году, увидела свет книга молодого врача-писателя Викентия Викентьевича Вересаева «Записки врача». Она имела сенсационный успех. Переживания начинающего свою деятельность врача, трудности, доводившие его до отчаяния, несоответствие между тем, к чему его готовили, и тем, что он увидел в жизни, – обо всем этом рассказано в «Записках врача» ярко и откровенно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
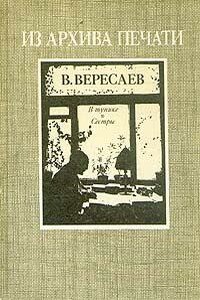
Современному читателю неизвестны романы «В тупике» (1923) и «Сестры» (1933). В начале 30-х гг. они были изъяты с полок библиотек и книжных магазинов и с тех пор не переиздавались.В этих романах нашли отражение события нашей недавней истории: гражданская война и сложный период конца 20-х – начала 30-х годов.В послесловие вошли не публиковавшиеся ранее материалы из архива писателя.http://ruslit.traumlibrary.net.

Я ушел далеко за город…Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный.Почему? Я сам не понимаю…

Я шел по улицам Старого Дрездена. На душе было неприятно и неловко: шел я смотреть ее, прославленную Сикстинскую мадонну. Ею все восхищаются, ею стыдно не восхищаться. Между тем бесчисленные снимки с картины, которые мне приходилось видеть, оставляли меня в совершенном недоумении, чем тут можно восхищаться…
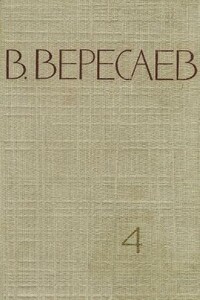
Редкое творческое долголетие выпало на долю В. Вересаева. Его талант был на редкость многогранен, он твердо шел по выбранному литературному пути, не страшась ломать традиции и каноны. В четвертый том вошли повести и рассказы: «К жизни», «Марья Петровна», «Дедушка», «У черного крыльца», «Семейный роман», «За гранью», «Состязание», «В глуши», «Исанка», «Болезнь Марины», «Невыдуманные рассказы о прошлом».http://ruslit.traumlibrary.net.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.