В тени завтрашнего дня - [3]
Не всякое ожидание будущего и осуждение настоящего выливалось в представление о близком конце света и вечном воздаянии за грехи. В прошлом не раз бывало, что лучшие умы утешались чаянием будущего на Земле, которое придет на смену дурному настоящему. Но и в этом случае характер подобных надежд отличался от современного культурного сознания. Людям всегда верилось, что прекрасное грядущее не за горами, стоит только руку протянуть; оно должно вот–вот наступить, достаточно лишь понять свои ошибки, рассеять недоразумения и обратиться к добродетели. Перемена виделась как мгновенный переворот.
Так представляли все это проповедники любой религии, включавшей в себя, помимо идеи вечного блаженства, также идею мира на земле. Так представлялось и Эразму: в возрожденном знании древней культуры человек обретет ключ к чистым истокам веры; отныне на всем долгом пути земного совершенствования нет никаких препятствий; в скором времени эта новая философия принесет свои плоды — единение, гуманность и культуру. Равным образом и для просветителей XVIII века, и для близкого их идеалам Руссо счастье человечества еще оставалось вопросом простого самосознания и поворота в умах. Для мыслителей Просвещения вся проблема заключалась в отказе от предрассудков и триумфе науки, для философа Руссо — только в возвращении к природе и созерцании добродетели. Из этого древнейшего и постоянно возобновляемого представления о простом повороте или перевороте общества выросла, в сущности, идея революции. Сам термин «революция» заимствован из кругового движения колеса. Долгое время на заднем плане этого представления неизменно маячило колесо Фортуны, от вращения которого порой даже шатались королевские троны. Присутствовала в слове «революция» и мысль о круговращении небесных тел. В политическом смысле это слово первоначально применялось к простым государственным переворотам, например 1688 года[2]. Только после того, как завершился великий феномен 1789 года, в течение XIX века понятие революции наполнилось тем содержанием, которое придал ему впоследствии социализм. Революция как идея по–прежнему остается в согласии с древней идеей внезапного спасения, благой и скорой перемены.
Этому извечному представлению о внезапном и сознательно желаемом повороте общественного бытия противостоит современное солидно обоснованное знание, полагающее необходимым истолковывать все естественное и все человеческое как результат действия многочисленных, взаимозависимых и долговременных сил. Не впадая при этом с неизбежностью в безоговорочный детерминизм, наш человеческий дух способен признать вмешательство человеческой воли в игру общественных сил только как фактор ограниченного действия. В лучшем случае благодаря целенаправленной консолидации и применению своих собственных высших потенций человек может использовать природные и социальные силы, главенствующие в игре общественной жизни. Он может подталкивать определенные тенденции этого процесса, но не может изменить направление самого процесса. Это убеждение в необратимости общественного процесса мы теперь стремимся выразить термином «развитие». Хотя данное понятие внутренне противоречиво, тем не менее оно стало для нас необходимым логическим орудием, причем крупного калибра. Развитие означает ограниченную необходимость. Эволюция прямо противоположна Перевороту, Революции. На место ушедших в прошлое наивных ожиданий, которые усматривали в скором времени либо конец света, либо золотой век, разум выдвигает твердое убеждение, что переживаемый нами кризис, каким бы он ни был, есть фаза поступательного и необратимого процесса. И все мы, каких бы взглядов и позиций ни придерживались, знаем одно: нам некуда отступать, мы должны пройти через это. Таков совершенно новый, ранее еще не встречавшийся элемент кризисного сознания эпохи.
Третье коренное различие между прежними формами восприятия кризиса и нынешней уже заключено во втором. В минувшие эпохи все глашатаи лучшей жизни, реформаторы и пророки, вершители и приверженцы ренессансов, реставраций, «пробуждений»[3] всегда указывали на «славное прошлое», призывали возвратиться назад, возродить былую чистоту. Гуманисты, реформаторы, моралисты времен Римской империи, Руссо, Мухаммед, даже пророки негритянского племени в Центральной Африке — все они постоянно обращали свой взор к воображаемому вчера, более прекрасному, чем грубое сегодня, и проповедовали возврат в минувшее.
В наши дни мы не собираемся недооценивать или презирать «славное прошлое». Мы знаем, что в иные времена — и даже совсем недавно — многое было лучше, чем теперь. Мы допускаем, что впоследствии человеческая культура в определенных чертах, утрату которых мы нынче оплакиваем, может снова обнаружить сходство с культурой былых времен. Но мы знаем твердо: всеобщего пути назад нет. Есть только движение вперед, хотя и кружат нам головы незнакомые глубины и дали, хотя и зияет перед нами ближайшее будущее, подобно пропасти в тумане.
III. Нынешний культурный кризис в сравнении с прежним
Хотя возврата к прошлому нет, прошлое может давать нам поучительный урок, послужить ориентиром. Можно ли найти такие исторические прецеденты, когда культура какого–либо народа, государства, части света так же мучилась бы родами, как в наши дни? Культурный кризис — понятие историческое. Поверяя его историей, сравнивая нынешнюю эпоху с предшествующими, можно придать этому понятию определенную объективную форму. Ибо нам известны не только обстоятельства возникновения и развития культурных кризисов прошлого, но также и завершающая стадия, исход этих кризисов. Наше знание о кризисах приобретает еще одно измерение. Порой целая цивилизация обрекалась на гибель, порой она возрождалась к новой, иной жизни. Мы можем оценить подобный исторический процесс как законченный случай. Хотя такого рода историческое вскрытие прошлого и не дает рецептов для лечения настоящего, более того, не дает и прогноза, мы не можем оставить неиспользованным ни единого средства, дабы распознать природу этого недуга.
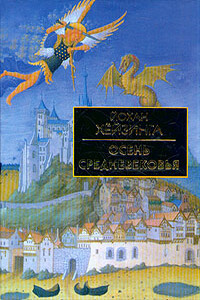
Книга нидерландского историка культуры Йохана Хейзинги, впервые вышедшая в свет в 1919 г., выдержала на родине уже более двух десятков изданий, была переведена на многие языки и стала выдающимся культурным явлением ХХ века. В России выходит третьим, исправленным изданием с подробным научным аппаратом."Осень Средневековья" рассматривает социокультурный феномен позднего Средневековья с подробной характеристикой придворного, рыцарского и церковного обихода, жизни всех слоев общества. Источниками послужили литературные и художественные произведения бургундских авторов XIV-XV вв., религиозные трактаты, фольклор и документы эпохи.

ЖУРНАЛ ФАНТАСТИКИ И ФУТУРОЛОГИИТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР: SOCIAL FICTIONСодержание:Джудит Меррил. ТОЛЬКО МАТЬ Александр Суворов. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧМишель Демют. НОКТЮРН ДЛЯ ДЕМОНОВЛеонид Гозман. ИСТОРИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХУильям Тэнн. НАЗАД НА ВОСТОК!Владимир Войнович. ПУТЕШЕСТВИЕ, ОБРЕЧЕННОЕ НА УСПЕХЭрик Фрэнк Рассел. ВАШ ХОДЙохан Хейзинга. HOMO LUDENSМайкл Коуни. ВОПЛОЩЕННЫЙ ИДЕАЛ. РоманТатьяна Гаврилова. ДЕНЬ НЕОТРИЦАНИЯ. МЕСЯЦ. ГОД.
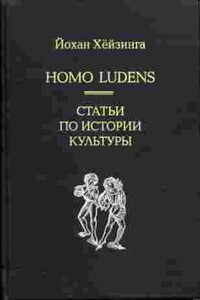
Книга продолжает издание избранных произведений выдающегося нидерландского историка и культуролога. Классическая работа Homo Ludens [Человек играющий] посвящена всеобъемлющей сущности феномена игры и универсальному значению ее в человеческой цивилизации. Статьи Задачи истории культуры, Об исторических жизненных идеалах, Политическое и военное значение рыцарских идей в позднем Средневековье, Проблема Ренессанса всесторонне рассматривают актуальные до сих пор философские и методологические вопросы в сфере истории и культорологии.
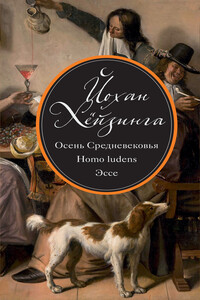
Сборник включает наиболее значительные произведения выдающегося нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги (1872–1945). Осень Средневековья – поэтическое описание социокультурного феномена позднего Средневековья, яркая, насыщенная энциклопедия жизни, искусства, культуры Бургундии XIV–XV вв. Homo ludens – фундаментальное исследование игрового характера культуры, провозглашающее универсальность феномена игры. В эссе Тени завтрашнего дня, Затемненный мир, Человек и культура глубоко исследуются причины и следствия духовного обнищания европейской цивилизации в преддверии Второй мировой войны и дается прогноз о возрождении культуры в послевоенный период.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
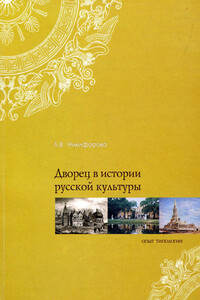
Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.