В сторону Свана - [35]
Но я любил Блока, родные хотели доставить мне удовольствие, и неразрешимые задачи, которые я ставил себе по поводу лишенной всякого смысла красоты дочери Миноса и Пасифаи, больше утомляли меня и причиняли мне большие страдания, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Комбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне (сообщение это оказало впоследствии огромное влияние на мою жизнь, сделав ее более счастливой и в то же время более несчастной), что все женщины только и помышляют что о любви и что нет ни одной среди них, сопротивление которой нельзя было бы преодолеть, Блок не поклялся, будто он слышал как-то от лица, в осведомленности которого не может быть сомнений, что моя двоюродная бабушка провела бурную молодость и открыто жила на содержании. Я не мог удержаться от передачи столь важной новости моим родным; когда Блок пришел после этого к нам, его выставили за дверь, и впоследствии, при встречах на улице, он раскланивался со мною крайне холодно.
Ho относительно Бергота он сказал правду.
В первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы еще не улавливаем, мною вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне казалось, что я увлечен только сюжетом, подобно тому как в первом периоде любви мы ежедневно ходим встречаться с женщиной на какое-нибудь собрание, на какой-нибудь вечер, будучи убеждены, что нас привлекают развлечения, получаемые нами на этих собраниях. Затем я обратил внимание на редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любил употреблять в известные моменты, когда скрытая гармоническая волна, затаенная прелюдия оживляли его стиль и сообщали ему подъем, и в эти как раз моменты он принимался говорить «о несбыточной мечте жизни», о «неиссякаемом потоке прекрасных видимостей», о «бесплодных и сладостных муках познания и любви», о «волнующих ликах, навсегда облагородивших величавые и пленительные фасады наших соборов», выражал целую философию, для меня новую, при помощи чудесных образов, и мне казалось, что это именно они вызвали то пение арф, которое звучало тогда в моих ушах, тот аккомпанемент, которому они сообщали что-то небесно возвышенное. Один из этих пассажей Бергота, третий или четвертый по счету, который мне удалось выделить из остального текста, наполнил меня радостью, несравнимой с удовольствием, испытанным при чтении первого пассажа, радостью, которую я ощутил в какой-то более глубокой области своего существа, более однородной, более обширной, откуда, казалось, были устранены всякого рода помехи и перегородки. Произошло это потому, что, узнав в этом пассаже тот же самый вкус к редким оборотам речи, ту же самую музыкальную волну, ту же самую идеалистическую философию, которые содержались и в предыдущих пассажах, хотя я и не отдал себе тогда отчет в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, — я не испытал на этот раз впечатления, что передо мною лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертивший на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру; мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии «идеального куска» прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума.
Я был далеко не единственным поклонником Бергота; он был также любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери; наконец, доктор дю Бульбон до такой степени увлекался только что вышедшей тогда его книгой, что заставлял своих пациентов подолгу ожидать его приема; как раз из его врачебного кабинета и из парка, расположенного в окрестностях Комбре, были брошены первые семена того увлечения Берготом, растения тогда еще очень редкого, но в настоящее время распространенного по всему миру, так что изысканные и пошловатые цветы его можно встретить повсюду в Европе и Америке, вплоть до самой ничтожной деревушки. Подруга моей матери и, по-видимому, доктор дю Бульбон подобно мне любили в произведениях Бергота главным образом мелодическое течение фраз, старинные выражения и наряду с ними выражения очень простые и очень известные, но поставленные им на так выгодно освещенное место, что самое это помещение их, казалось, выдавало какое-то особенное его пристрастие к ним; наконец, в грустных частях его книг, — какую-то грубость, какой-то глухой и почти суровый тон. И он сам, должно быть, чувствовал, что в этом одна из главных прелестей его прозы. Ибо в своих позднейших книгах, когда ему случалось выражать какую-нибудь великую истину или упоминать о каком-нибудь знаменитом соборе, он прерывал свое повествование и в своего рода призыве, риторическом обращении, длинной молитве давал волю тем токам, которые в ранних его произведениях оставались спрятанными внутри его прозы, давали знать о себе только легким волнением на поверхности, токам, может быть еще более сладостным, еще более гармоничным, когда они были таким образом прикрыты, так что невозможно было указать с точностью, где рождается, где замирает их рокот. Эти куски, которые он писал с таким удовольствием, были также и нашими самыми излюбленными кусками. Что касается меня, то всех их я знал наизусть. Я испытывал разочарование, когда он продолжал нить своего рассказа. Каждый раз, когда он говорил о предмете, красота которого оставалась до тех пор от меня скрытой, — о сосновых лесах, о грозе, о Соборе Парижской Богоматери, о Гофолии, о Федре, — какой-нибудь его образ вдруг озарял эту красоту и позволял мне ее воспринять. Поэтому, смутно чувствуя, что вселенная содержит множество частей, которые слабые мои чувства были бы бессильны различить, если бы он не приблизил их ко мне, я желал бы обладать его мнением, какой-нибудь его метафорой обо всем существующем, особенно о тех вещах, которые когда-нибудь я буду иметь случай увидеть сам, в частности о старинных памятниках французского искусства и некоторых морских пейзажах, ибо настойчивость, с которой он возвращался к ним в своих книгах, доказывала, что он считает их богатыми содержанием и таящими в себе неисчерпаемые красоты. К несчастью, его мнения оставались почти вовсе неизвестными мне. Я не сомневался, что они были в корне отличными от моих собственных мнений, ибо проистекали из неведомого мне мира, до которого я пытался возвыситься; убежденный, что мои мысли показались бы жалкой нелепостью этому совершенному уму, я так основательно вымарал их все, что, когда случайно мне попадалось в какой-нибудь из его книг суждение, которое я сам уже составил себе, сердце мое наполнялось гордостью, как если бы некое божество, по благости своей, открыло мне его, объявило правильным и прекрасным. Иногда случалось, что какая-нибудь страница Бергота выражала те же мысли, которые я часто по ночам, когда не мог уснуть, писал бабушке и маме, — выражала так хорошо, что производила впечатление собрания эпиграфов, которые я мог бы поместить в заголовках своих писем. Даже много лет спустя, когда я приступил к писанию своей собственной книги и некоторые мои фразы настолько не удовлетворяли меня, что пропадала охота продолжать, я нашел адекватное выражение своих мыслей у Бергота. Но я способен был наслаждаться такими фразами лишь когда читал их в его произведениях; когда же я сам сочинял их, озабоченный тем, чтобы они в точности отражали все оттенки моей мысли, и опасаясь в то же время, как бы не вышло слишком похоже на Бергота, я не имел времени спрашивать себя, приятно ли будет читать то, что я написал. Но в действительности лишь этого рода фразы, лишь этого рода мысли я подлинно любил. Мои лихорадочные и не достигшие цели усилия сами являлись свидетельством любви, любви, не приносившей мне наслаждения, но глубокой. Вот почему, когда я вдруг находил подобные фразы в произведениях другого, то есть когда они не сопровождались у меня сомнениями, строгой критикой и душевными терзаниями, я вволю ублажал в таких случаях свой вкус к ним, как освобожденный почему-либо от обязанности стряпать повар находит наконец время полакомиться сам. И вот, найдя однажды в какой-то книге Бергота шутку по адресу старой служанки, шутку, которой великолепный и роскошный язык писателя придавал еще большую ироничность, но которая по существу была тою же, что и я часто отпускал по адресу Франсуазы в разговорах с бабушкой, и обнаружив в другой раз, что Бергот не считал недостойным отразить в одном из тех зеркал истины, каковыми являлись его произведения, одно замечание, подобное замечанию, сделанному как-то мною относительно нашего друга г-на Леграндена (причем эти замечания относительно Франсуазы и г-на Леграндена заведомо принадлежали к числу тех, которыми я без колебания пожертвовал бы ради Бергота, будучи убежден, что он не найдет в них ничего интересного), я вдруг испытал ощущение, что моя убогая жизнь и царство истины вовсе не так уж удалены друг от друга, как мне казалось, и что в некоторых пунктах они даже соприкасаются; от вновь полученного доверия к своим силам и от радости я заплакал над страницами писателя, словно в объятиях отца после долгой разлуки.
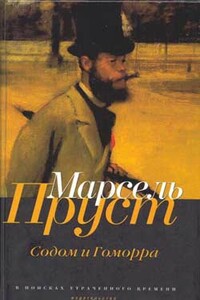
Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».
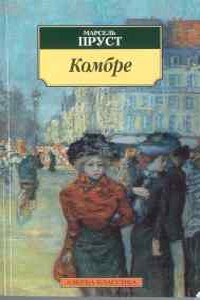
Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.
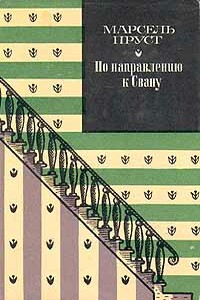
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.
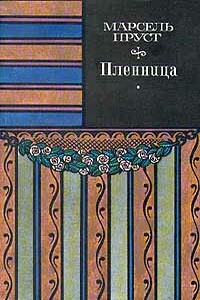
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.В тексте «Германт» сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Франковского.
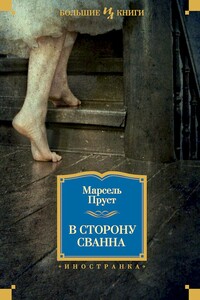
Первый том самого знаменитого французского романа ХХ века вышел в свет более ста лет назад — в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
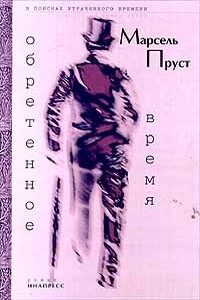
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
